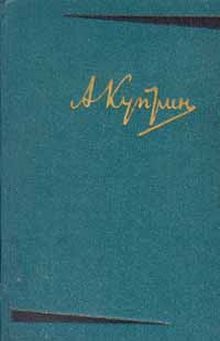Я необыкновенно живо помню этот длинный декабрьский вечер. Я сидел у круглого обеденного стола и при ярком свете висячей лампы читал толстый истрепанный том «Северной пчелы»,[1] тот самый милый мне по воспоминаниям том, который я непременно каждый раз заставал и терпеливо прочитывал с начала до конца, приезжая на рождественские каникулы в Ружичную. Дядя Василий Филиппович сидел против меня в низком и глубоком кожаном кресле, протянув вдоль ковровой скамеечки свои подагрические ноги, обвернутые одеялом тигрового цвета. Его лицо оставалось в тени; только страшные белые усищи и трубка между ними попали в светлый круг и рисовались чрезвычайно отчетливо. Иногда я отрывался от книги и прислушивался к метели, разгулявшейся на дворе. Всегда есть что-то ужасное, какая-то угрюмая и злобная угроза в этих звуках, начинающихся глухим рыданием, восходящих по хроматической гамме до пронзительного визга и опять спускающихся вниз. А деревья в это время качаются и гудят своими вершинами, ветер свистит и плачет в трубах, и при каждом новом порыве бури кажется, будто кто-то бросает в ставни горсти мелкого сухого снега. И, когда я прислушивался к этому дьявольскому концерту, моя мысль невольно останавливалась на том, что вот я сижу теперь в ветхом помещичьем доме, затерянном среди унылых снежных равнин, сижу глаз на глаз с дряхлым, больным стариком, далеко от города, от привычного общества, и мне начинало казаться, что никогда, никогда уж больше не окончится это завывание вьюги, и эта длительная тоска, и однозвучный ход маятника…
— Ты говоришь — случайности, — произнес вдруг Василий Филиппович, грузно повертываясь в своем кресле и заслоняясь рукой от света, — а ты знаешь ли, что жизнь иногда возьмет да удерет такую шутку, что никакой твой романист ничего подобного не придумает?..
Я сначала не понял, к чему относилось это восклицание, но потом вспомнил, что у нас за обедом был разговор о безбрежности книжного вымысла, и спросил:
— Почему вы вдруг об этом заговорили, дядя?
— Да так себе… сижу я вот теперь… тихо кругом… на дворе погода… ну и того, знаешь, разная старина в голову лезет… Припомнился мне один случай, вот я и сказал…
Дядя замолчал и долго с томительным кряхтеньем укутывал больные ноги. Потом он начал:
— Собрались мы раз у ротмистра фон Ашенберга на именины. Было дело зимой. А мы, надо тебе сказать, то есть наш N-ский гусарский полк только что воротился тогда из венгерской кампании, и начальство нас расквартировало по омерзительным деревушкам. Глушь и тоска — просто невероятные. Ездили мы, правда, по окрестным попам, — ну, да посуди сам, что ж тут веселого? Оставалось нам только одно — беспросветное пьянство и карты, карты и пьянство. Так мы и положили себе за правило, что
…кто в день два раза не пьян,
Тот, извините, не улан…
Ну, так вот, Собрались мы. Во-первых, штаб-ротмистр Иванов 1-й… Теперь в полках старики плачутся, что измельчал народ и что молодежь никуда не годится. Так же и штаб-ротмистр Иванов 1-й на нас плакался. А надо тебе сказать, что по летам он был самый старший офицер в полку, и все знали (и весь полк этим гордился), что он в свое время с самим Денисом был на ты, а с Бурцовым пил и дебоширил[2] целых шесть месяцев подряд. Затем был майор Кожин — этот славился по всей легкой кавалерии своим изумительным голосом. Черт знает, что за голос был! Иной раз во время хорошей выпивки возьмет стакан, приставит ко рту да как гаркнет. Ну, вот ты смеешься, — а у него, честное слово, одни осколки оставались в руках. Были два поручика — Резников и Белаго; мы их звали «инсепараблями»,[3] или мужем и женой, потому, что они никогда не расставались и всегда жили на одной квартире. Был еще казачий есаул Сиротко, или иначе «ежова голова», — потому что он ко всякому слову прибавлял «ежова голова». Потом был корнет граф Ольховский — так себе, телятина, однако ничего… добрый малый, хотя и наивный и глуповатый; его к нам только что из юнкеров произвели… Был также в этой компании поручик Чекмарев, наш общий любимец и баловень. Про него даже штаб-ротмистр Иванов 1-й говорил иногда в добрую минуту: «Вот этот мальчишка… еще куда ни шло, у него кишки в голове гусарские… Этот не выдаст…» Веселый, щедрый, ловкий, красавец собою, великолепный танцор и наездник — словом, чудесный малый. И что к нему особенно привлекало наши грубоватые сердца, так это какая-то удивительная нежность, почти женственность в улыбке и обращении. Кроме того, надо тебе сказать, что он был очень богат и его кошелек всегда был в общем распоряжении.
Собрались мы все люди холостые (у нас в полку женатых всего только двое было) и выпили страшно много. Пили за здоровье хозяина, пили круговую, пили «аршинную» — выстраивали рюмки в длину на аршин и пили, позвали песенников и с песенниками пили, вызвали оркестр полковой — под оркестр пили. Есаул Сиротко «ежова голова» — к каждой рюмке говорил присловья: «два сапога — пара, без троицы дом не строится, без четырех углов дом не становится», и так чуть ли не до пятидесяти, и большая часть из них были совсем неприличные.
В это время кто-то, кажется, один из «инсепараблей», вспомнил, что вчера граф Ольховский ездил к помещику играть в дьябелок, иначе ландскнехт. Оказалось, что он выиграл полторы тысячи деньгами, каракового жеребца и золотые часы-брегет. Ольховский нам эти часы сейчас же и показал. Действительно, хорошие часы: с резьбой, с украшениями, и когда сверху надавить пуговку, то они очень мелодично прозвонят, сколько четвертей и который час. Старинные часы.
Ольховский немного заважничал.
— Это, — говорит, — очень редкая вещь. Я ее ни за что из рук не выпущу. Весьма вероятно, что подобных часов во всем свете не больше двух-трех экземпляров.
Чекмарев на это улыбнулся.
— Напрасно вы такого лестного мнения о ваших часах. Я вам могу показать совершенно такие же. Они вовсе не такая редкость, как вы думаете.
Ольховский недоверчиво покачал головой.
— Где же вы их достанете? Простите, но я сомневаюсь…
— Как вам угодно. Хотите- пари?
— С удовольствием… Когда же вы их достанете? Но это пари показалось обществу неинтересным. Есаул Сиротко взял Ольховского за ворот и оттащил в сторону со словами:
— Ну, вот, ежовы головы, затеяли ерунду какую-то. Пить так пить, а не пить, так уж лучше в карты играть…
Попойка продолжалась. Вдруг Кожин скомандовал своим ужасающим басом:
— Драбанты — к черту! (Драбантами у нас назывались денщики.) Двери на запор! Чикчиры долой! Жженка идет!..
Прислуга была тотчас же выслана, двери заперты, и огонь потушен. Утвердили сахарную голову над тремя скрещенными саблями, под которыми поместили большой котел. Ром вспыхнул синим огоньком, и штаб-ротмистр Иванов 1-й затянул фальшивым баритоном:
Где гусары прежних лет?
Где гусары удалые?[4]
Мы подтягивали ему нестройным хором. Когда же дошел до слов:
Деды, помню вас и я.
Испивающих ковшами
И сидящих вкруг огня
С красно-сизыми носа-а-а-ами, —
голос его задрожал и зафальшивил больше прежнего. Жженка еще не сварилась, как вдруг есаул Сиротко ударил себя по лбу и воскликнул:
— Братцы мои! Ежовы головы! А ведь я совсем было забыл, что у меня нынче приемка обоза. Удирать надо, ребята.
— Сиди, сиди, врешь все, — сказал штаб-ротмистр Иванов 1-й.
— Ей-богу же, голубчик, нужно… Пустите, ежовы головы. К восьми часам надо быть непременно, я ведь все равно скоро вернусь. Ольховский, сколько часов теперь? Позвони-ка!
Мы слышали, как Ольховский шарил по карманам.
Вдруг он проговорил озабоченным тоном:
— Вот так штука!..
— Что такое случилось? — спросил фон Ашенберг.
— Да часов никак не найду. Сейчас только положил их около себя, когда снимал ментик.
— А ну-ка, посветите, господа.
Зажгли огонь, принялись искать часы, но их не находилось. Всем нам почему-то сделалось неловко, и мы избегали глядеть друг на друга.
— Когда вы у себя их последний раз помните? — спросил фон Ашенберг.
— Да вот как только дверь заперли… вот сию минуту. Я еще снимал мундир и думаю; положу их около себя, в темноте по крайней мере можно будет час узнать…
Все замолчали и потупились. Иванов 1-й внезапно ударил кулаком по столу с такой силой, что стоявшие на нем рюмки зазвенели и попадали.
— Черт возьми! — закричал он хрипло. — Давайте же искать эти поганые часы. Ну, живо ребята, лезь под стол, под лавки. Чтобы были!..
Мы искали около четверти часа и совершенно бесплодно. Ольховский, растерянный, сконфуженный, повторял ежеминутно: «Ах, господа, да черт с ними… да ну их к бесу, эти часы, господа…» Но Иванов1-й прикрикнул на него, страшно выкатывая глаза: