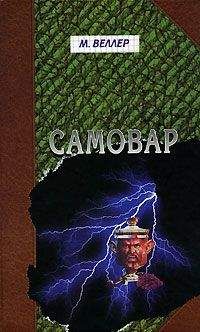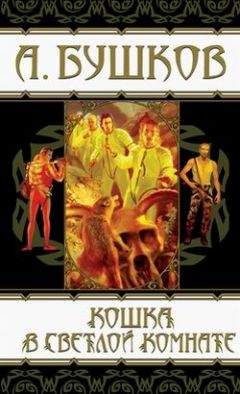В довольно большой, недавно выбеленной комнате господского флигеля, в деревне Сасове, — го уезда, Т… губернии, сидел за старым покоробленным столиком, на деревянном узком стуле молодой человек в пальто и рассматривал счеты. Две стеариновые свечки, в дорожных серебряных шандалах, горели перед ним; в одном углу на лавке стоял открытый погребец, в другом — слуга устанавливал железную кровать. За низкой перегородкой ворчал и шипел самовар; собака ворочалась на только что принесенном сене. В дверях стоял мужик в новом армяке, подпоясанный красным кушаком, с большой бородой и умным лицом, по всем признакам староста; он внимательно глядел на сидевшего молодого человека. У одной стены стояло очень ветхое крошечное фортепьяно, возле столь же древнего комода с дырами вместо замков; между окнами виднелось темное зеркальце; на перегородке висел старый, почти весь облупившийся портрет напудренной женщины, в роброне и с черной ленточкой на тонкой шее. Судя по заметной кривизне потолка и покатости щелистого пола, флигелек, в который мы ввели читателя, существовал давным-давно; в нем никто постоянно не жил, он служил для господского приезда. Молодой человек, сидевший за столом, был именно владелец деревни Сасовой. Он только накануне прибыл из главного своего имения, отстоящего верст за сто оттуда, и на другой же день собирался уехать, окончивши осмотр хозяйства, выслушавши требования крестьян и поверив все бумаги.
— Ну, однако, довольно, — промолвил он, приподняв голову, — устал. Ты теперь можешь идти, — прибавил он, обращаясь к старосте, — а завтра приходи пораньше, да с утра повести мужиков, чтобы на сходку явились, слышишь?
— Слушаю.
— Да земскому вели мне ведомость за последний месяц представить. Однако ты хорошо сделал, — продолжал барин, оглянувшись, — что стены выбелил. Все как будто чище.
Староста молча тоже оглянул стены.
— Ну, теперь ступай. Староста поклонился и вышел. Барин потянулся.
— Эй! — крикнул он. — Дайте мне чаю… Пора спать. Слуга отправился за перегородку и скоро вернулся с стаканом чаю, связкой городских котелок и сливочником на железном подносе. Барин принялся пить чай, но не успел он отхлебнуть двух глотков, как в соседней комнате послышался стук вошедших людей и чей-то пискливый голос спросил:
— Владимир Сергеич Астахов дома? Можно их видеть? Владимир Сергеич (так именно звали молодого человека в пальто) с недоумением посмотрел на своего человека и торопливым шепотом проговорил:
— Поди узнай, кто это?
Человек вышел и прихлопнул за собой плохо затворявшуюся дверь.
— Доложи Владимиру Сергеичу, — раздался тот же пискливый голос, — что сосед их Ипатов желает их видеть, буде не обеспокоит; да со мной еще приехал другой сосед, Бодряков, Иван Ильич, тоже желают почтение свое засвидетельствовать.
Невольное движение досады вырвалось у Владимира Сергеича. Однако когда слуга его вошел в комнату, он сказал ему:
— Проси.
И он встал в ожидании гостей.
Дверь отворилась, и появились гости. Один из них, плотный седой старичок, с круглой головкой и светлыми глазками, шел впереди; другой, высокий, худощавый мужчина, лет тридцати пяти, с длинным смуглым лицом и беспорядочными волосами, выступал, переваливаясь сзади. На старичке был опрятный серый сюртук с большими перламутровыми пуговицами; розовый галстучек, до половины скрытый отложным воротничком белой рубашки, свободно обхватывал его шею; на ногах у него красовались штиблеты, приятно пестрели клетки его шотландских панталон, и вообще он весь производил впечатление приятное. Его товарищ, напротив, возбуждал в зрителе чувство менее выгодное: на нем был черный старый фрак, застегнутый наглухо; штаны его, из толстого зимнего трико, подходили под цвет его фрака; ни около шеи, ни у кистей рук не виднелось белья. Старичок первый приблизился к Владимиру Сергеичу и, любезно поклонившись, заговорил тем же тоненьким голоском:
— Честь имею рекомендоваться — ближайший ваш сосед и даже родственник, Ипатов, Михаиле Николаич. Давно желал иметь удовольствие с вами познакомиться. Надеюсь, что не обеспокоил.
Владимир Сергеич отвечал, что он очень рад и сам желал… и что беспокойства никакого нет и не угодно ли сесть… чаю выкушать.
— А этот дворянин, — продолжал старичок, выслушав с приветной улыбкой недомолвленные речи Владимира Сергеича и протянув руку в направлении господина во фраке, — тоже ваш сосед… и мой хороший знакомый, Бодряков, Иван Ильич, сильно желал с вами познакомиться.
Господин во фраке, по лицу которого никто бы не предположил, чтобы он чего-нибудь мог сильно пожелать в своей жизни — до того рассеянно и в то же время сонливо было выражение этого лица, — господин во фраке поклонился неловко и вяло. Владимир Сергеич поклонился ему в ответ и вторично попросил гостей присесть.
Гости сели.
— Очень рад, — начал старичок, приятно расставив руки, между тем как его товарищ принялся, слегка раскрыв рот, оглядывать потолок, — очень рад, что имею наконец честь видеть вас лично. Хотя вы постоянным жительством вашим и обретаетесь в довольно отдаленном от здешних мест уезде, однако мы считаем вас тоже своим, коренным, так сказать, владельцем.
— Мне это очень лестно, — возразил Владимир Сергеич.
— Лестно ли, нет ли, а оно так. Вы, Владимир Сергеич, извините, мы здесь, в — ом уезде, народ прямой, по простоте живем: говорим, что думаем, без обиняков. У нас даже, скажу вам, на именины друг к другу ездят не иначе как в сюртуках. Право! Так уж у нас заведено. В соседних уездах нас за это сюртучниками называют и даже упрекают якобы в дурном тоне, но мы на это и внимания не обращаем! Помилуйте, в деревне жить — да еще чиниться?
— Конечно, что может быть лучше… в деревне… этой натуральности в обращении, — заметил Владимир Сергеич.
— А между тем, — возразил старичок, — и у нас в уезде живут люди, можно сказать, умнейшие, европейски образованные люди, хоть и фраков не носят. Вот хоть бы, например, историк наш, Евсюков, Степан Степаныч: он российской историей с самых древнейших времен занимается и в Петербурге известен, ученейший человек! В городе нашем старинное шведское ядро, знаете… там оно среди площади поставлено… ведь это он его открыл. Как же! Центелер, Антон Карлыч… тот естественную историю изучил: впрочем, говорят, эта наука всем немцам далась. Когда у нас, лет десять тому назад, забежавшую гиену убили, так ведь это Антон Карлыч открыл, что она действительно была гиена, по причине особенного устройства ее хвоста. Вот еще Кабурдин есть у нас помещик: тот больше легкие статейки пишет; очень бойкое у него перо, в «Галатее» есть его статейки. Бодряков… не Иван Ильич, нет, Иван Ильич этим неглижирует, а другой Бодряков, Сергей… как бишь его по батюшке-то, Иван Ильич… как бишь?
— Сергеич, — подхватил Иван Ильич.
— Да, Сергей Сергеич, — тот стихами занимается. Ну, конечно, не Пушкин, а иногда так отбреет, что хоть бы в столице. Вы его эпиграмму на Агея Фомича знаете?
— На какого Агея Фомича?
— Ах, извините; я все забываю, что вы все-таки не здешний житель. На нашего исправника. Очень смешная вышла эпиграмма. Иван Ильич, ты, кажется, ее помнишь?
— Агей Фомич, — равнодушно заговорил Бодряков.
…недаром славно
Дворянским выбором почтен…
— Надо вам сказать, — перебил Ипатов, — что его выбрали почти что одними белыми шарами, ибо человек он наидостойнейший.
— Агей Фомич, — повторил Бодряков.
…недаром славно
Дворянским выбором почтен:
Он пьет и кушает исправно…
Так как же не исправник он?
Старичок засмеялся.
— Хе-хе-хе! А ведь недурно? С тех пор, поверите ли вы, всякий из нас скажет, например, Агею Фомичу: здравствуйте — и уж непременно прибавит: «Так как же не исправник он?» И Агей Фомич, вы думаете, сердится? Нисколько. Нет — у нас этого и в заведении нет. Вот спросите хоть Ивана Ильича.
Иван Ильич только глазами повел.
— Сердиться за шутку, как это можно! Вот хоть бы Иван Ильич, его у нас прозывают Складная Душа, потому что он весьма скоро на все соглашается. Что ж? Разве Иван Ильич за это обижается? Никогда!
Иван Ильич посмотрел, медленно мигая, сперва на старичка, потом на Владимира Сергеича.
Название «Складная Душа» действительно очень шло к Ивану Ильичу. В нем и следа не было того, что называется волей или характером. Всякий, кто только хотел, мог увести его с собой куда угодно; стоило только сказать ему: Иван Ильич, поедемте, — он брал шапку и ехал; а подвернись тут другой и скажи ему: Иван Ильич, останьтесь, — он клал шапку и оставался. Нрава он был миролюбивого и тихого, весь свой век прожил холостяком, в карты не играл, но любил сидеть возле играющих и глядеть им по очереди в лица. Без общества он жить не мог и уединения не переносил; он тогда впадал в уныние; впрочем, это с ним случалось очень редко. За ним водилась еще одна особенность: встав рано поутру с постели, он вполголоса напевал старинный романс: