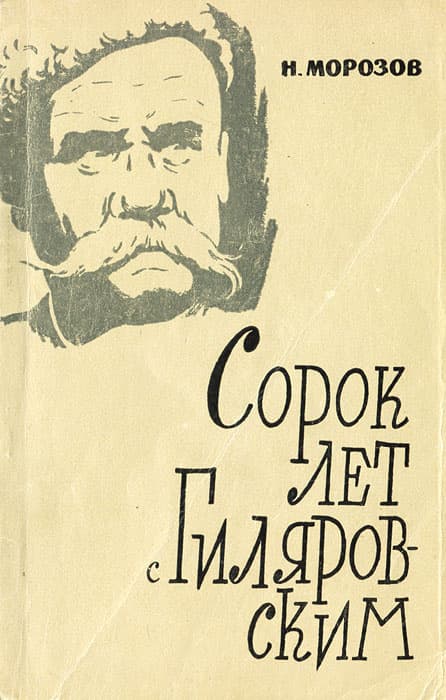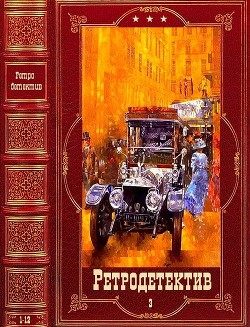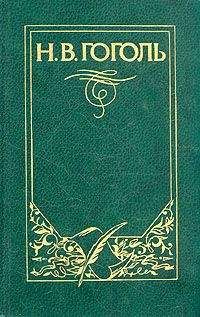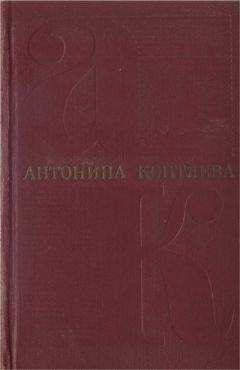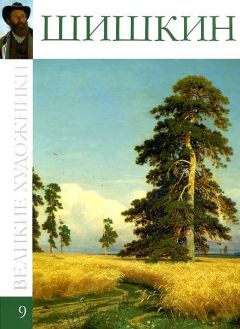Сердце Николаю Ивановичу досталось большое. Врачи диагностировали кардиомегалию. Давно, в молодости еще. Теперь же Николай Иванович подбирался к шестидесяти, безвылазно ютился в своей квартирке на третьем, смотрел в окно как в кино и ждал первого снега.
А за окном стоял юный морозец, и на тротуаре, покрытом хрупкой наледью, стоял Витек из квартиры напротив и беззвучно ругался со своей женой Ольгой. В Ольгину руку вцепился Мишутка и глядел на папу открыв рот и вытаращив удивленные глазенки.
Николай Иванович присел на “ожидательный” стул у окна, чтобы дождаться и выведать, чем закончится скандал на этот раз. Он давно научился ждать — первых морозов, оттепели, весны, сезона отпусков, осени. Даже скорой помощи, которая часто превращалась в медленную помощь, а то и вовсе в беспомощность.
Врач требовал, чтобы больной не нервничал, чтоб соблюдал, и чтобы принимал. И Николай Иванович выполнял предписания. О прогнозах врач только разводил руками:
— Какие тут прогнозы? Я не синоптик. Хорошо, если до первого снега доживете. То, что вы дотянули до такого возраста в вашем положении уже чудо.
Николай Иванович даже смутился, что живет не отмеренное ему, а как бы лишнее, чужое. И куда деть такое свалившееся чудо?
Никому излишек не отрежешь, а себе… Так он уже дождался осени. И знал, что за нею приходит зима.
Гулкий ветер за окном стих, и сквозь стекло Николай Иванович расслышал, как Витек крикнул: ”Все!”. Крикнул, раздраженно махнул рукой и нервно-торопливо ушел в никуда. Ольга ринулась вдогонку, но Мишутка, который якорем волочился за ней, мешал ей бежать. Она споткнулась и упала. Потом вскочила проворно, пошла было, прихрамывая, за Витьком, но остановилась, наконец, осознав безнадежность, присела на корточки возле малыша, обняла его и расплакалась.
Николай Иванович помнил все их ссоры и скандалы. Помнил, но не вспоминал. Вообще, он любил вспоминать, надеясь втайне, что добрые воспоминания сродни теплой молитве. Вот так помянет он кого-нибудь, и тому станет чуть светлее. Николай Иванович всегда старался жить для кого-то. Если бы люди лицезрели души, то, может статься, его душою любовались бы, как любуются всяким источником света, будь то солнце, луна или ночные городские фонари. Потому, что вспоминал он только хорошее. Такое-то хорошее, какое находил добрым и светлым.
Вот, например, Мишутка очень любил родителей. И Николай Иванович вспомнил об этом. А отсюда припомнились ему и собственные его родители.
Сначала они жили для него, для своего Коленьки. Не находилось в них ничего своего, а все силы души полагали они к любви о единственном сыне.
Поздно он родился, и когда ему исполнилось двадцать пять, родители уже совершенно состарились и нуждались во внимательной помощи и уходе. И теперь уже он жил для них, окружая своих ласковых старичков такой теплотой, какая, по его надеждам, могла продлить их дни и наполнить радостью их последние вздохи.
Когда же друг за дружкою они тихо ушли, Коленька остался один.
Жить для работы, конечно, пусто, но он жил. А когда получил травму, пришлось просидеть полгода на больничном. Здесь он привык жить для инвалидки-соседки, которой помогал, потому что во всей многоквартирке только они вдвоем сидьмя сидели дома. Зато он увидел мир за окном, пусть порой и казалось, что окна для полной жизни маловато. Теперь же это искусство превратилось в лучшего друга.
Он оторвался от окошка, уселся, кряхтя, в кресло, набросил на коленки шерстяное одеяльце и задремал. Когда перед внутренним взором уже понеслись образы сновидений, в дверь позвонили. Николай Иванович вздрогнул, очнулся, поднялся тихонько, проковылял в переднюю и открыл дверь. На пороге стояла Ольга с Мишуткой:
— Дядь Коль, — по ее заплаканному лицу некрасиво растеклась тушь, отчего он вспомнил Пьеро из детского фильма. — Я хочу отдать вам долг и попрощаться.
Она протянула свернутые купюры. Николай Иванович попробовал ее отговорить, но Ольга была так расстроена, что он не смог настаивать.
Ольга… Она не от мира сего. Такая начитанная и возвышенная, но такая ранимая и совершенно не самостоятельная. Николай Иванович выглянул из-за ее плеча и прочитал записку на двери напротив: “Квартира сдается”. Понятно: они здесь больше не проживают. Разошлись-таки.
— Куда же ты теперь? — вздохнул Николай Иванович с сочувствием уже почти родного человека.
— Не знаю, — Ольгин голосок дрогнул, и она взглянула в потолок, чтобы удержать слезинки. — Пока переночуем на вокзале, а завтра…
Николай Иванович подождал, но Ольга больше ничего не сказала. Она была беременна. Заметно беременна. У нее не было работы, но был вокзал.
Ольга ушла, и Николай Иванович закрыл дверь.
Работа нужна всем. Когда он вылечил травму, он вернулся на работу, но жить для нее уже не получалось совсем. Работа не человечна. А нужен человек. И он женился и жил ради жены, стараясь сгореть для нее факелом или дровами в ее камине. Но жена не нуждалась ни в его свете, ни в его тепле:
— Ты больной, Коля. Говорят, твой диагноз — “Бычье сердце”, — и добавляла разочарованно: — Ты бык, Коля, а не орел.
Коля и вправду походил на быка — большой, сильный, с такой широкой шеей, что у некоторых и спина не так широка. И всегда все тянул в одиночку. Тягловый и спокойный бык.
Прожили они три года, и жена родила ему сына. Николай Иванович тогда решил, что свершилось нечто особенное, и теперь жизнь будет настоящая. Но вскоре жена упархнула с залетным орлом.
Это недобрые воспоминания, их лучше не касаться. И он привычно подошел к окну, которое всегда его выручало. Робкая снежинка легла на оцинкованный подоконник. Первый снег уже сгущался в тяжелые тучи где-то высоко в небе, а где-то в самом низу Ольга медленно брела по тротуару, понурив голову. Мишутка плелся за нею сзади, хотя и держался за руку. Он напомнил Николаю Ивановичу о сынишке.
Когда жена ушла, сына с собою она не забрала. И следующие три года Николай Иванович “сидел в декрете”. И “декрет” вспоминался как самое счастливое время, когда он мог отдать всего себя без остатка, отдать своему сынишке, своему малышу. Все лучшее в его