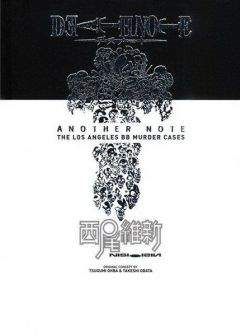Такіе разсказы старика Стилова я слушалъ съ восторгомъ. И зимой по длиннымъ вечерамъ еще охотнѣе, чѣмъ лѣтомъ въ тѣни родимаго платана.
Въ домѣ у насъ есть зимняя комната съ большимъ очагомъ. Это моя любимая комната, и я недавно велѣлъ обновить ее по-старому, такъ, какъ она была прежде. Она не очень велика; по обѣимъ сторонамъ очага стоятъ низкія, широкія, очень широкія двѣ софы во всю длину стѣны и покрыты онѣ тою яркою пурпуровою шерстяною и прочною тканью, которую ткутъ въ Болгаріи и Эпирѣ для дивановъ нарочно. Стѣны этой комнаты простыя бѣлыя и чистыя, пречистыя, какъ всегда въ нашемъ домѣ онѣ бываютъ; а противъ очага дула́пы15 въ стѣнѣ, и рѣшеточки, и полки по стѣнѣ узенькія во всю комнату кругомъ, и окна, и двери, все окрашено зелеными полосами и трехугольниками, и еще такого цвѣта, какого бываютъ весенніе маленькіе цвѣтки, въ тѣни благоухающіе, по-турецки «зюмбюль».
Вотъ въ этой комнатѣ была у насъ какъ будто бы сама Россія! Лампада въ углу теплилась предъ золотыми и прекрасными русскими иконами; была одна изъ этихъ иконъ Божія Матерь Иверская, дивный, божественный ликъ! Новой живописи московской, но по древнимъ образцамъ; ликъ, исполненный особой кротости и необычайно красивый; за золотымъ вѣнцомъ ея былъ укрѣпленъ другой вѣнецъ изъ яркихъ розъ самой восхитительной работы, какая-то особая пушистая зелень, какъ бархатъ нѣжная, и на цвѣтахъ сіяли капли искусственной росы. Теперь вѣнокъ этотъ снятъ отъ ветхости, но мнѣ было непріятно знать, что Божія Матерь наша безъ него, и я послалъ недавно отсюда новый вѣнокъ такой же на Ея святое чело.
На бѣлыхъ стѣнахъ этой комнаты висѣли картины. Портретъ государя Николая I и его нынѣ столь славно царствующаго сына. Оба, ты знаешь, что́ за молодцы на видъ и что́ за красавцы!
На картинкахъ другихъ ты видишь коронацію Александра II въ Москвѣ, его шествіе съ царицей въ митрополію Кремля съ державой и скипетромъ, видишь побѣду при Башъ-Кадыкъ-Ларѣ и взятіе турецкаго лагеря еще при князѣ Паскевичѣ-Эриванскомъ. Турки одѣты тогда были иначе: въ высокихъ и узкихъ шапкахъ убѣгаетъ ихъ кавалерія стремглавъ, напирая другъ на друга сквозь тѣснину, а русскіе съ обнаженными саблями мчатся на нихъ. Посреди картины молодой казакъ хватаетъ за грудь рукой самого пашу, у котораго на красивомъ мужественномъ лицѣ изображена прекрасно смѣсь испуга и рѣшимости. Онъ думаетъ еще защищаться, старый янычаръ не хочетъ отдаться легко; онъ спѣшитъ выхватить пистолетъ изъ-за пояса. Но… ты уже понимаешь, что это тщетно! Онъ плѣнникъ, и его отвезутъ на смиренное поклоненіе Царю въ Петербургъ.
Не была забыта у насъ и Эллада! О, не думай ты этого. Въ нашемъ домѣ увѣнчаны были цвѣтами любви нашей обѣ дщери эти великой православной матери нашей, церкви восточной, и старая дщерь, полная сѣверной мощи, и юная наша Греція, которая любуется на себя въ голубыя волны южныхъ морей и цвѣтетъ, разнообразно красуясь на тысячѣ зеленыхъ острововъ, надъ мирными и веселыми заливами, на крутизнахъ суровыхъ и безплодныхъ вершинъ.
Въ нашемъ домѣ, въ сердцахъ нашихъ, не раздѣляясь враждебно, цвѣли тогда любовью нашей эти прекрасныя обѣ вѣтви.
Побѣды блестящаго князя Паскевича не затмевали подвиговъ нашего великаго и простого моряка Кана́риса, и царь Николай взиралъ, казалось мнѣ, съ сожалѣніемъ и благосклонностью, какъ на другой стѣнѣ умиралъ у насъ Марко Боцарисъ въ арнаутской одеждѣ, склонясь на руки своей вѣрной дружины.
Вотъ въ этой родительской и старой комнатѣ, въ ней самой и отецъ мой лежалъ больной когда-то и полюбилъ впервые мою мать. Зимой, темнымъ вечеромъ, когда вѣтеръ шумѣлъ въ долинѣ, или падалъ снѣгъ въ горахъ, или лился скучный дождь, мы зажигали привѣтный и широкій очагъ нашъ, и отцовскіе друзья приходили одни или съ женами и вели у очага долгую бесѣду. Мать моя и старая Евге́нко пряли и вязали чулки и молча слушали мужчинъ.
Слушалъ и я старика Стилова съ восторгомъ, и раннюю жизнь сердца, мой добрый аѳинскій другъ, повѣрь мнѣ, не замѣнитъ ничто, и никакой силѣ лживаго разума не вырвать съ корнемъ того, что́ посѣяно было рано на нѣжную душу отрока.
Я увѣряю тебя, что и Эллада не могла быть забыта у насъ.
Забыть Элладу! Возможно ли было забыть ее, когда на насъ такъ грозно и умно глядѣлъ изъ-подъ густыхъ бровей нашъ патріотъ Несториди?
Какъ я боялся сначала и какъ послѣ любилъ и почиталъ этого человѣка!
И онъ съ каждымъ годомъ, съ каждымъ шагомъ моимъ на пути первыхъ познаній становился все благосклоннѣе и благосклоннѣе ко мнѣ, отдавая справедливость моимъ способностямъ и прилежанію.
Позднѣе еще, когда въ Янинѣ у меня открылся небольшой поэтическій даръ, Несториди первый ободрилъ меня и не разъ тогда проводилъ онъ со мною цѣлые часы въ дружеской бесѣдѣ, прочитывалъ мнѣ отрывки изъ древнихъ поэтовъ и объяснялъ мнѣ все неисчерпаемое богатство нашего царственнаго языка, который пережилъ такое дивное разнообразіе событій, подчинялся столькимъ чуждымъ вліяніямъ и возносился всякій разъ надъ всѣми этими вліяніями, овладѣвая вполнѣ духомъ вѣка и присвоивая его себѣ.
Несториди былъ нашъ загорецъ изъ небогатой семьи; отецъ его, почти столѣтній старецъ, и теперь еще живетъ, бродя кой-какъ съ палочкой и грѣясь на солнцѣ въ дальнемъ селеніи Врадетто, которое стоитъ на неприступныхъ каменныхъ высотахъ, у береговъ горнаго, холоднаго и безрыбнаго озера.
Несториди въ дѣтствѣ пасъ овецъ и часто спалъ, завернувшись въ бурку, подъ открытымъ небомъ. Потомъ отецъ взялъ его домой и обучилъ немного грамотѣ. Проѣзжалъ тогда черезъ Врадетто одинъ богачъ загорецъ изъ Молдо-Валахіи. Остановился отдохнуть и вышелъ подъ вечеръ прогуляться съ друзьями. На небольшой полянкѣ онъ увидѣлъ толпу играющихъ дѣтей. Играли они въ игру, которая зовется у насъ клуцо́-скуфица16.
Дѣти становятся въ кругъ; одинъ снимаетъ съ себя бумажный или валеный колпачокъ или феску, и всѣ на лету должны успѣть ударить ее ногой такъ, чтобъ она дальше и дальше летѣла.
Богатый загорецъ сѣлъ на траву и любовался. Онъ лѣтъ двадцать уже не былъ на родинѣ и не могъ вдоволь насытиться радостью, глядя на веселье и крики загорскихъ дѣтей.
Сынъ старика Нестора превосходилъ всѣхъ другихъ мальчиковъ красотой, энергіей и ловкостью. Смуглый, курчавый, румяный и стройный, въ бѣдной куцо-влашской одеждѣ, въ синихъ шальварчикахъ, въ бѣломъ валеномъ колпачкѣ, этотъ мальчикъ прыгалъ какъ олень молодой, глаза его сіяли; онъ ни разу не промахнулся, и быстрыя движенія его были такъ сильны, что иные товарищи его падали на землю, когда онъ и нечаянно отталкивалъ ихъ.
— Какой паликаръ и что́ за бравый мошенникъ! — говорилъ про него купецъ.
Священникъ сказалъ, что онъ къ наукѣ способенъ.
Потомъ, когда проѣзжій спросилъ у дѣтей, кому изъ нихъ дать въ подарокъ деньги для всѣхъ и кто изъ нихъ раздѣлитъ эти деньги честнѣе, дѣти всѣ въ одинъ голосъ избрали маленькаго Несториди.
Тогда купецъ сказалъ: «Онъ и паликаръ, онъ и мошенникъ, онъ же и честный! Человѣкомъ будетъ!» И предложилъ отцу отвезти его въ янинское училище и устроить его тамъ на общественный счетъ.
Отецъ съ радостью согласился, и Несториди уѣхалъ съ своимъ благодѣтелемъ сперва въ Янину, а потомъ въ Аѳины.
Тотчасъ по пріѣздѣ нашемъ съ Дуная я подружился съ маленькими дочерьми учителя и очень любилъ бывать въ ихъ скромномъ и чистомъ жилищѣ. Оно и недалеко было отъ нашего дома.
Жена его, кира-Марія, была еще молодая, кроткая, смирная, бѣлокурая, «голубая», какъ говорятъ иногда у насъ, но не слишкомъ красивая. Онъ очень ее любилъ, но принималъ съ ней почти всегда суровый видъ. Она знала, что онъ ее любитъ, и была покорна и почтительна. Въ семейномъ быту онъ былъ древній человѣкъ и не любилъ свободы. «Я деспотъ дома! Въ семьѣ я хочу быть гордымъ аристократомъ!» восклицалъ онъ нерѣдко и самъ.
Жена стояла передъ нимъ до тѣхъ поръ, пока онъ не говорилъ ей: «Сядь, Марія!» Она ему служила, подавала сама гостямъ варенье и кофе; сама готовила кушанье, сама успѣвала домъ и дворикъ подмести.
И дочерей своихъ, и насъ, учениковъ, Несториди за шалости и лѣнь билъ крѣпко иногда и замѣчалъ при этомъ, что «палка изъ рая вышла. Но надо бить безъ гнѣва и обдуманно, ибо въ гнѣвѣ побои могутъ быть и несправедливы и ужасны».
Жена, впрочемъ, своими просьбами нерѣдко умѣла смягчать его. У нея было много сладкихъ и ласкательныхъ словъ.
— Учитель ты мой любезный! — говорила она ему, складывая предъ нимъ руки. — Очи ты мои, золотой мой учитель, кузумъ-даскала! барашекъ ты мой! Отпусти ты это дитя домой не бивши. Я, твоя жена, прошу тебя объ этомъ. Жалко мнѣ, прежалко видѣть эти дѣтскія слезы.
И онъ уступалъ ей.
Самъ Несториди одѣвался хотя и бѣдно, но по-европейски и носилъ шляпу, а не феску, потому что былъ греческій подданный, а не турецкій. Но женѣ не позволялъ мѣнять стариннаго платья, и она покрывалась всегда платочкомъ и носила сверхъ платья толстую нашу загорскую абу безъ рукавовъ.