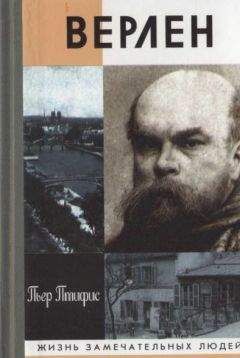Блоком мы измеряем прошлое, как землемер разграфляет тонкой сеткой на участки необозримые поля. Через Блока мы видим и Пушкина, и Гете, и Баратынского, и Новалиса, но в новом порядке, ибо все они предстали нам как притоки несущейся вдаль русской поэзии, единой и неоскудевающей в вечном движении.
Всегда будет чрезвычайно любопытным и загадочным, откуда пришел поэт Блок… Он пришел из дебрей германской натурфилософии, из студенческой комнатки Аполлона Григорьева, и — странно — он чем-то возвращает нас в семидесятые годы Некрасова, когда в трактирах ужинали юбиляры, а на театре пел Гарсиа.
Кузмин пришел от волжских берегов с раскольничьми песнями, итальянской комедией родного, домашнего Рима и всей старой европейской культурой, поскольку она стала музыкой, — от «концерта» в палаццо Питти Джорджоне до последних поэм Дебюсси.
Клюев пришел от величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоятся в эллинской важности и простоте. Клюев народен потому, что в нем уживается ямбический дух Баратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя.
Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа 19-го века. Не было бы Ахматовой, не будь Толстого с «Анной Карениной», Тургенева с «Дворянским гнездом», всего Достоевского и отчасти даже Лескова.
Генезис Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не в поэзии. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу.
Вся эта форма, вышедшая из асимметрического параллелизма народной песни, а жало узкой осы приспособлено для переноса психологической пыльцы с одного цветка на другой.
Итак, ни одного поэта без роду и племени, все пришли издалека и идут далеко.
Во время расцвета мишурного русского символизма и даже до его начала Иннокентий Анненский уже являл пример того, чем должен быть органический поэт: весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать. Анненский никогда не сливался с богатырями на глиняных ногах русского символизма — он с достоинством нес свой жребий отказа — отречения. Дух отказа, питающий поэзию Анненского, питается сознанием невозможности трагедии в современном русском искусстве благодаря отсутствию синтетического народного сознания, непререкаемого и абсолютного (необходимая предпосылка трагедий), и поэт, рожденный быть русским Еврипидом, вместо того чтобы спустить на воду корабль всенародной трагедии, бросает в водопад куклу, потому что —
Сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей.
Ныне мы стоим перед поздним шумным рецидивом символизма, поэзией московских школ, главным образом имажинистов, — тоже наивное явление, только хищническое и дикарское, — на этот раз не перед духовными ценностями культуры, а ее механическими игрушками. Любой швейцар старого московского дома с лифтом и центральным отоплением культурнее имажиниста, который никак не может привыкнуть к лифту и пропеллеру. Молодые московские дикари открыли еще одну америку — метафору, простодушно смешали ее с образом и обогатили нашу литературу целым выводком ненужных растерзанных метафорических уподоблений.
Бесконечно менее интересный и почтенный, чем символизм, но родственный ему, имажинизм не последнее, должно быть, явление в русской литературе. Хищническая экстенсивная поэзия на нашей почве будет возрождаться до тех пор, пока ее сделает невозможной русская культура. Право же, дурная поэзия изнурительна для культурной почвы, вредна, как и всякая бесхозяйственность.
<1922>
КОЕ-ЧТО О ГРУЗИНСКОМ ИСКУССТВЕ
В русской поэзии есть грузинская традиция. Когда наши поэты прошлого столетия касаются Грузии, голос их приобретает особенную женственную мягкость и самый стих как бы погружается в мягкую влажную атмосферу:
На холмы Грузии легла ночная мгла…
Может быть, во всей грузинской поэзии нет двух таких стихов, по-грузински пьяных и пряных, как два стиха Лермонтова:
Пену сладких вин
Сонный льет грузин.
Я бы сказал, что в русской поэзии есть свой грузинский миф, впервые провозглашенный Пушкиным:
Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной, —
и разработанный Лермонтовым в целую мифологию с мифом о Тамаре в центре.
Любопытно, что этим мифом, обетованной страной для русской поэзии стала не Армения, а Грузия.
Грузия обольстила русских поэтов своеобразной эротикой, любовностью, присущей грузинскому национальному характеру, и легким, целомудренным духом опьянения, какой-то меланхолической и пиршественной пьяностью, в которую погружена душа и история этого народа. Грузинский эрос — вот что притягивало русских поэтов. Чужая любовь всегда была нам дороже и ближе своей, а Грузия умела любить. Ее старое искусство, мастерство ее зодчих, живописцев, поэтов, проникнуто утонченной любовностью и героической нежностью.
Да, культура опьяняет. Грузины сохраняют вино в узких длинных кувшинах и зарывают их в землю. В этом — прообраз грузинской культуры: земля сохранила ее узкие, но благородные формы художественной традиции, запечатала полный брожения и аромата сосуд.
То, что нельзя вывести из рассудочных данных культуры, из учета ее накопленных богатств, есть именно дух пьянства, продукт таинственного внутреннего брожения: узкая глиняная амфора с вином, зарытая в землю.
Никогда русская культура не навязывала Грузии своих ценностей. Русификация края никогда не шла дальше форм административной жизни. Русские администраторы с Воронцовым-Дашковым во главе, уродуя экономическую жизнь края и подавляя общественность, не сумели затронуть быта и относились к нему с невольным уважением. О культурной русификации Грузии не было и речи. Поэтому национальное и политическое самоопределение Грузии, резко распадающиеся на два периода — до и после советизации Грузии, для грузинской культуры и искусства должны были быть экзаменом верности самой себе, и культурная Россия, целое столетие любовно следившая за Грузией, сейчас с тревогой глядит на страну, готовую изменить своему культурному призванию. Сущность грузинской культуры всегда была в обращенности к Востоку, причем Грузия никогда не сливалась с Востоком, была отдельной от него.
Я бы причислил грузинскую культуру к типу культур орнаментальных. окаймляя огромную и законченную область чужого, они впитывают главным образом его узор, в то же время ожесточенно сопротивляясь внутренне враждебной сути могущественных соседних областей.
Сейчас в Грузии стоном стоит клич: «Прочь от Востока — на Запад! Мы не азиаты — мы европейцы, парижане!» Как велика наивность грузинской художественной интеллигенции!.. Тенденция — прочь от Востока! — всегда существовала в грузинском искусстве, но разрешалась не грубым лозунгом, а высокохудожественными формами и средствами.
Войдите в национальный музей грузинской живописи в Тифлисе. Перед вами предстанет длинная вереница строгих портретов, преимущественно женских, по своей технике и глубокому статическому покою напоминающих немецкую живопись. В то же время плоскостное восприятие формы и линейная композиция (ритм линий) дышат приемами персидской миниатюры. Часто встречается золотой фон и богатый золотой орнамент. Эти работы безымянных живописцев — настоящая победа грузинского искусства над Востоком, — и как ничтожны перед ними танцующие осколки скрипки, некогда разбитые Пикассо, пленившие новую французскую живопись. С этой скрипкой произошло то же самое, что с мошенническими реликвиями монахов: скрипка была одна, ее разбили один раз, но нет такого города, где бы не показывали щепочки — вот кусочек от Пикассо!
Жизнь языка открыта всем, каждый говорит, участвует в движении языка, и каждое сказанное слово оставляет на нем живую борозду. Чудесный случай наблюдать развитие языка живописного доставляют нам вывески, в частности тифлисские, на наших глазах вырастающие в мощное искусство Пиросманишвили.
Нико Пиросманишвили был простой и неграмотный живописец вывесок. Он писал на клеенке в три цвета — охрой, зеленой землей и черной костью. Его заказчики, тифлисские духанщики, требовали интересного сюжета, и он шел им навстречу. На одной из его картин я прочел собственноручную подпись — «Шамиль со свово караулом» (сохраняю орфографию). Нельзя не преклониться перед величием его «безграмотных» (не анатомических) львов, великолепных верблюдов с несоразмерными человеческими фигурами рядом и палатками, победивших плоскость силою одного цвета. Если бы французы знали Пиросманишвили, они бы ездили в Грузию учиться живописи. Впрочем, они его скоро узнают, так как по недосмотру вещи его почти все вывезены за границу.