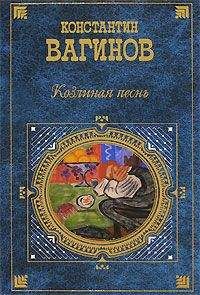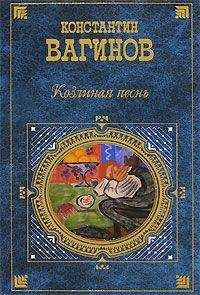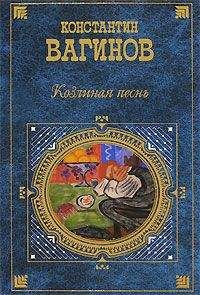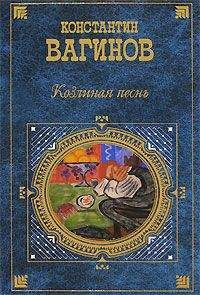– Экое было вырождение и до чего праздные люди не додумаются! Стихи должны передавать мысль, идти по пятам науки. Радио изобретен – пиши о радио, беспроволочный телеграф изобретен – прославляй культуру.
Но пока хоть и недолгая слава, – Тептелкин спустил ноги и сел на постели, – но слава уже ждет неизвестного поэта. Барышни уже начали наклеивать фотографические карточки на его книжки, пожимают ему руку научные сотрудники, студенты вешают его портрет над скучными книжками. И если он сейчас умрет, то за его гробом пойдет не менее сорока человек и будут говорить о борьбе против века и изобразят хитроумным Одиссеем, оставшимся на острове Цирцеи (искусство), бежавшим от моря (социология)».
Взглянул Тептелкин в окно, не идет ли к нему неизвестный поэт, и увидел, что идет, палочкой постукивает, шляпой помахивает, новую рукопись несет.
«Вот сейчас попирую в стране неизвестной», – подумал Тептелкин и побежал дверь отпирать.
Поцеловались. Ругнули современность. Духовно плюнули на проходивших пионеров.
– Экое поколение растет, без всякого гуманизма, будущие истинные представители средневековья, фанатики, варвары, не просвещенные светом гуманитарных наук.
– Да пакость, гадость вокруг – одичание, – склонился Тептелкин.
Сели.
– И всегда пакость, гадость была вокруг, сволочное топтание, – задумавшись, продолжал Тептелкин. – Воображаю, как белогвардейцы пакостят консульские здания за границей: перед тем, как туда вселяется какое-нибудь полпредство и обои срывают, и в потолок плюют, и паркет выламывают. Не сядут перед камином посидеть в последний раз, погрустить, посмотреть на стены, материей обтянутые, не походят по комнатам, не выйдут в сад, если таковой при доме имеется.
– Не стоит философствовать, – уклонился неизвестный поэт, – мы давно – я искусственно, вы литературно – пережили гибель, и никакая гибель нас не удивит. Интеллигентный человек духовно живет не в одной стране, а во многих, не в одной эпохе, а во многих и может избрать любую гибель, он не грустит, а ему просто скучно, когда его гибель застает дома, он только промычит: еще раз с тобой встретился, – и ему станет смешно.
Тептелкину стало грустно, очень грустно. Он подошел к окну.
«Какие славные, загорелые дети эти пионеры, – подумал он и улыбнулся. Ему почему-то стало радостно и свежо, как будто в комнату ворвалась струя воздуха, освещенная солнцем, – вот снова молодость мира», – подумал он.
В это время в комнату вошел Костя Ротиков.
– Удивительные стихи пишете вы, – обратился он к неизвестному поэту, – истинное барокко.
У Кости Ротикова были особые движения, весь он двигался с элегантностью. Сегодня он зашел к Тептелкину, чтоб увезти неизвестного поэта и поговорить с ним о безвкусице: он собирал безвкусные и порнографические вещи как таковые; часто они, Костя Ротиков и неизвестный поэт, ходили по рынкам и выбирали пепельницы; на одной стороне пепельницы все прилично, а на другой все неприлично; на одной стороне идет дама и лицо кавалера за ней улыбается, а на другой…
Костя Ротиков покупал не только порнографические открытки, но и открытки приличные, но отвратительные. Усастый, румяный кавалер обедает с дамой в ресторане и жмет ей ножку под столом своим сапогом. Девица в прическе блином играет на арфе. Голая нимфа с кружкой пива бежит, а за ней охотится человек в тирольском костюме.
Когда они ушли, Тептелкин вздохнул свободнее. Осмотрел свою комнату, и все в ней ему понравилось. Понравилась ему и пепельница с цветочками (она существовала для друзей – Тептелкин не курил), и ваза для цветочков с аравитянкой, облокотившейся на кувшин, и фотографические карточки – семейные сцены детства: вот шестилетний Тептелкин бежит с сачком за бабочкой, вот восьмилетний Тептелкин обедает, вот десятилетний Тептелкин в латах царя сидит под елкой; вот карточки матери, братьев, сестер, вот друзей, наконец, карточка Мечты.
Посмотрел Тептелкин на летнее кресло-качалку и нашел, что оно не менее удобно, чем вольтеровское кресло, решил продолжать основной труд своей жизни, открыл сундук, сундук был всегда покрыт зеленой плюшевой скатертью и изображал – неизвестно что изображал. Достал тетрадь.
На первой странице было выведено: «Иерархия смыслов. Введение в изучение поэтических произведений». На второй странице в нижнем углу (Тептелкин любил оригинальность) помещалось посвящение «Моей Единственной» (Единственной – с большой буквы) и фотографическая карточка Мечты. На третьей странице римская цифра I, на четвертой посредине выступало одно слово: «предисловие», на пятой…
Труд был начат солидно. Дальше под основным текстом шли примечания на французском языке из виднейших современных лингвистов, без перевода на русский язык (труд был явно рассчитан на настоящих ученых, а не на глупых студентов). Основной текст, казалось, тоже был написан на иностранном языке и только согласован русскими окончаниями. Тут намекалось на возможность дать новые определения понятию романтического и понятию классического, тут говорилось о поэтических способах окрашивать настоящее время в прошедшее и будущее и разрушалось нелепое представление, что смыслы гнездятся в слове, и давалось определение эстетического как фантазма, как гармонизации природы и истории.
«И если б истинный художник, – думал Тептелкин, – заглянул в эту книгу, он не смог бы оторваться от нее; на него подействовал бы завораживающий пафос этих страниц: художественное произведение всегда лично, принципиально лично, нельзя видеть художественное произведение безлично, дело не в имени, а в том, что личность в произведении отражается».
* * *
«Искусство есть восхищенность, есть объективный фазис бытия. В эстетическом нет ни природы, ни истории, это особая сфера: и не логическая, и не этическая, и не сумма их». Сколько бы ни читал художник, неотступно звучал бы в его ушах лейтмотив книги: искусство есть бытие восхищенное, фантазия есть объективный фазис бытия. И он бы простил Тептелкину и нелепый язык, и французские примечания, и убранство комнаты, и фотографическую карточку Мечты в шляпке, с зонтиком в руках, отъезжающей на извозчике.
Интермедия
Уже два часа прохаживается по рынку Костя Ротиков в белых брюках, в черном пиджаке и фетровой шляпе. Высокий, коренастый, склоняется над барахлом, брезгливо раздвигает палочкой, ищет порнографию.
– Чего вам? – спрашивают торговки старым железом и сосут край стакана с горячим чаем. – Чего вы все роетесь, все разбрасываете?
Краснеет Костя Ротиков и отходит. Неизвестный поэт по другую сторону стоит перед рыночным антикваром, рассматривает старую, косматую, похожую на ведьму Венеру; одной рукой она ведет большеголового амура, в другой держит балалайку. У Венеры чресла опоясаны монгольской тканью с зигзагами, груди у нее морщинистые, отвислые, а по бокам головы знаки ее (+).
В это время к нему подходит Свечин.
– Знаешь, здесь на рынке Кокоша Шляпкин торгует. Выставил, подлец, красноармейца, танцующего на груди офицера, нарисовал портретики Ильича, вставил в медальоны и комсомолкам в платочках предлагает. А не знаешь ли ты вузовки какой-нибудь? Люблю девушек откупоривать. Вчера, пока ты шествиями наслаждался, – знаю, знаю, сидел где-нибудь на балконе и поплевывал вниз, – я Наташу…
Бывший артиллерийский офицер сделал соответствующий жест.
Неизвестный поэт почувствовал беспокойство. Он помнил ее еще маленькой девочкой с косичками, в белом платье, танцевавшей в Павловске на детских балах.
– А, вот вы где, друзья мои, – протянул им руки Тептелкин, – должно быть, о литературе говорите, не буду мешать вам, не буду.
Он откланялся и пошел.
Костя Ротиков, наконец, отыскал соответствующую спичечницу. Свечин отправился, заглядывая под шляпки.
Вдоль стены стояли бывшие дамы, предлагая: одна – чайную ложечку с монограммой, другая – порыжевшее, никуда не годное боа, третья – две рюмочки, переливавшие семью цветами, четвертая – тряпичную куколку собственного изделия, пятая – корсет девятисотых годов. Та седая старушка – свои волосы, выпавшие еще в ранней юности и собранные в косичку, эта, сравнительно молодая, – сапоги, довольно поношенные, своего умершего мужа.
Глава VIII. Неизвестный поэт и Тептелкин ночью у окна
– Вы совершаете великую подлость, – сказал мне однажды неизвестный поэт. – Вы разрушаете труд моей жизни. Всю жизнь я старался в моих стихах показать трагедию, показать, что мы были светлые; вы же стремитесь всячески очернить нас перед потомством.
Я посмотрел на него.
– Если вы думаете, что мы погибли, то вы жестоко ошибаетесь, – продолжал неизвестный поэт, играя глазами, – мы особое, повторяющееся периодически состояние и погибнуть не можем. Мы неизбежны.
Он сел на скамейку. Я сел с ним рядом.
– Вы – профессиональный литератор, нет ничего хуже профессионального литератора, – отодвинулся он от меня.