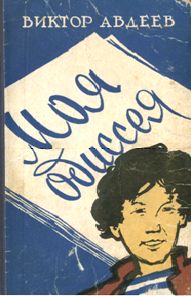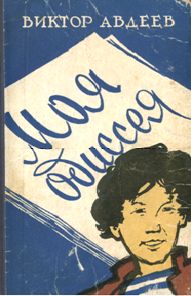Тогда я променяла тебя…
Простишь ли ты мне, Тамарин, это слово? Мне кажется одного его, одного напоминания достаточно для твоего самолюбия, чтобы снова восстановить тебя на несколько лет. Что я тогда сделала с тобой, мой добрый друг, мой злой демон! Какое оскорбление я нанесла твоему страшному самолюбию! Как беспощадно попрала твое мягкое, детское сердце! Клянусь тебе, я не знала, я не понимала, не могла еще понять тебя тогда. Впрочем, к чему уверения? Ты сам это знаешь и все-таки не переменишься. Поздно! Поздно!
Несколько месяцев тебя нигде не было видно… Что ты пережил в эти месяцы? Потом, когда я тебя встретила в свете, для меня ты был неузнаваем. Ты был и весел, и мил, и чудно увлекателен; ты имел все достоинства светского человека и облек ими свою прежнюю мощную, высокую натуру. Но ты страшно облек себя светскими условиями и приличиями. Из-за них не прорывалось ни одно свободное чувство, ни один сильный порыв, который бы не подходил под устав света; ты стал типом умного, высокого du comme il faut – как это слово странно звучит с твоей прежней смелой, свободной натурой! И вот, изменившись, преобразясь, ты снова стал в толпе моих поклонников. Зачем ты это сделал? С досады, из любви или мщения? Тогда я увидела разницу между тобой и другими: ты головой был выше всех. Я прозрела, я полюбила. Но было уже поздно! Тогда я только узнала любовь, и чем более я тебя знала, тем более любила; я тебе отдалась вся, вся… Теперь я удивляюсь, как ты не оттолкнул меня тогда! Как ты на слова любви не ответил мне укором и презрением! Но ты отомстил хуже.
Ты от меня взял все и ничего мне не дал. Тогда, как и теперь, твоя чудная двойственная натура, заманчивая странным столкновением противоположностей, влекла к себе, невольно обещала что-то высокое, прекрасное – и давала только холодную, мертвую любовь. Боже мой, что я с тех пор вынесла! Но я не ропщу, я не виню тебя: я, одна я всему причиной. Это я все сделала. Мне только хочется припомнить все, что пережили мы вместе.
Потом эта последняя вспышка твоей прежней натуры. Бездушный, о котором я думала, что любила, похвастался перед тобой моей любовью и назвал тебя своим преемником. О! Клянусь тебе, Тамарин, он никогда не был для меня тем, чем ты стал для меня, – моим идеалом, моим добрым гением, моим черным демоном! Но он во многом был прав. Отчего ты это сделал? Счел ли ты его слова за клевету, не зная, что я так низко упала, или в тебе пробудился остаток прежней любви и не вынесла твоя гордая натура поругания имени, которое она носила, может быть, еще глубоко, глубоко, где-нибудь на дне сердца? Или просто это был порыв оскорбленного самолюбия, при мысли, что не ты был первым?…
И мы расстались. Я помню это прощание: я плакала, я не понимала себя… стыд, угрызения совести, любовь, жгучая любовь. Ты был скучен, зол и равнодушен, а между тем ты хотел быть ласков! Твой последний поцелуй был холоден, как первый поцелуй нашего свидания. Без тебя я хлопотала о твоем прощении… не для тебя, нет. Собственно для себя. Мне было сладко быть чем-нибудь в твоей жизни, больно и отрадно произносить вслух твое имя. Все думали, что я хочу загладить свое прежнее поведение, поправить репутацию… что мне в ней!
И вот мы опять свиделись, чтобы снова расстаться, и, может быть, уже навсегда. Ты мало изменился, только еще более охладел, изленился жить и чувствовать.
Было ли это следствием прошлого, или и другие, как я, дали тебе, мой бедный друг, еще горький урок, еще тягостное убеждение, что жить и чувствовать значит страдать, что тяжело жить тому, кто наказан понимающей себя высокой натурой и имеет право быть страшно самолюбивым. Я тебя не спрашивала об этом: я боялась пробудить прошедшее.
Боже мой, стучатся. Пора! Пора! А мне хотелось еще так много сказать тебе. Что ждет меня? Впрочем, я рада, что муж все знает.
Будет мне его обманывать. Мне легче, что я перед ним, как и перед светом, могу сбросить тяжелую маску.
Только теперь он будет вечной преградой между нами. Я для тебя буду ничто, ничто, как заживо умершая! Это ужасно! Только иногда разве ты невольно вспомнишь обо мне, но как обо мне т вспомнишь? Бога ради, не поминай меня дурно! Неужели я еще не выкупила своей вины? Да я не виновата: я была тогда другая, я была тогда для тебя тем черным насланием судьбы, которым ты был для меня во всю жизнь и чем будешь для других. Для других-то за что? Я хотела просить тебя, да нет, не нужно. Вчера я также приходила просить, но это было гибельно для меня. Верно, так уж надо, чтобы все так шло.
Люби Вареньку, если можешь любить, позволь и ей любить себя.
Быть может, она даст твоему сердцу ту жизнь, которую отняла я у него. Тогда я первая благословлю ее. Если же нет, что же? Ведь надобно ей когда-нибудь страдать. Ведь страдали же и ты и я!
Опять стучатся! Это голос барона… проси прости, прости твою Лидию.
Лошади поданы, мы сейчас едем; шесть часов утра. Ты еще спишь теперь, Тамарин, я тебя не увижу!»
Пока Тамарин читал письмо баронессы, Варенька ходила по саду. Что пережила она, бедненькая, в эти два часа с приезда Тамарина!
В жизни чувств, как в жизни растений, есть не уловимое мгновение, в которое они, как пунцовый цветок, прорвавший зеленую почку, вдруг являются на Божий свет, и все тайно вскормленное и бессознательно выношенное в сердце становится очевидностью. Этот фазис поутру в тот день пережила Варенька.
Еще накануне она легла в томительном незнании, еще ночью, как неясные грезы, неясны были ей чувства. Она проснулась, открыла глаза, взглянула на светлый день – и увидела, что она любит. Она не могла дать себе отчет, когда, давно ли полюбила Тамарина. Ей было ясно одно – что она его любит.
Еще поутру, сидя под окном, склонив на маленькую ручку свою хорошенькую головку и поджидая Тамарина, она раздумывала о своей любви.
Мысли и мечты ее были тихи и чисты, как ее любовь. Она не испугалась ее. Она не знала, что есть на свете ревность, неразделенная любовь, разлука, забвение, предпочтение другой и еще целая бездна этих фурий, которые по пятам ходят за любовью и готовы вместе с ней ворваться в сердце, чтобы истерзать и изгрызть всю его внутренность. Она ничего этого не знала. Она думала, что можно весь век пролюбить милого, поджидая его с уверенностью, что он сейчас приедет, или просиживая с ним целые дни да слушая его лихую заколдованную речь.
А между тем Тамарин ехал медленною рысью и вез ей много новых ощущений, которых дай бы Бог и во век не перечувствовать. Прошло часа два с его приезда, и они не были тайной для Вареньки. Много пережила она в эти часы. Сначала ей было досадно, что Сергей Петрович прошел почти не останавливаясь мимо нее и уселся с Маврой Савишной; потом этот странный загадочный разговор с ним! И только что в конце разговора, как змея, уколола ее в сердце мысль, что Тамарин не любит ее, отнимает у нее даже надежду на свою любовь, в это время ему подают женское письмо, письмо из Лункина, значит, от баронессы, от женщины, которая его любит и которую, может быть, и он любит тайно!
Варенька несколько раз прошлась бессознательно по аллеям. Она не знала, где она, что с нею, только чувствовала, что любовь ее вдруг выросла целыми годами. Мысли неясно проходили в голове, но ни на одной из них она не останавливалась: в груди что-то жало и давило ее; ей как будто хотелось плакать, но плакать она не могла; только две слезы выступили и повисли на длинных ресницах, те слезы, которые выжимаются из глаз физической болью и нисколько не облегчают страданий. Тамарин нашел ее в самом темном углу сада, сидящую на скамейке; вокруг нее на земле лежали листочки оборванной георгины, в руке она держала ощипанный стебелек.
– Вы здесь! – сказал он, подходя к Вареньке. – Насилу-то я нашел вас.
Варенька оправилась.
– Я нарочно ушла сюда: там жарко, а у меня нестерпимо болит голова.
И она приложила к бледному горячему лбу свою холодную ручку.
– От кого вы это получили письмо? – спросила она, стараясь как можно равнодушнее сделать вопрос.
– От баронессы, – отвечал Тамарин.
У Вареньки еще больше сжалось сердце: она знала чье это письмо, но не ожидала, что Тамарин назовет баронессу.
– А! Вы с ней в переписке! – сказала она холодно.
– Да; я с баронессой так давно и хорошо знаком, что она считает себя вправе, откинув церемонию, если встретится надобность, обращаться прямо ко мне.
– Письмами, на двух листах! – заметила Варенька.
– Я редко пользуюсь этой честью, – сказал Тамарин. – Сегодняшнее письмо – исключение. Баронесса уехала, я не знал о ее отъезде и потому не успел быть у нее: она хотела на прощание сказать мне несколько слов и объяснить свой отъезд.
Варенька встрепенулась как птичка.
– Баронесса уехала! – сказала она. – Как, куда это? Да так нечаянно!
– Она уехала в Петербург, – отвечал Тамарин. – Барон скрутил отъезд. Вчера с вечера они еще и не думали о нем. Но сегодня ночью ему представилась какая-то крайняя надобность. Вероятно, он получил эстафету, и в шесть часов они уехали.