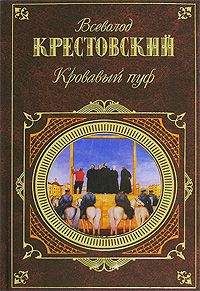— Ну, да! А сам говорит: "потеха"! — кивнул на него головой классик.
— А что ж, и действительно потеха! Только потеха не в том, что мы делали визиты, а в том, как они эти визиты принимали! Ха, ха, ха!.. О, Боже ж мой! Нет, это просто стоит в лицах представить!.. Вообразите себе, например, подъезжаем… гайдук спрыгивает с запяток, бежит, осведомляется: дома ли? принимают ли? могут ли принять?
И пан Селява-Жабчинский очень живо и изобразительно представил в лицах то глупое недоумение и недоверие хлопов, с каким они на первый раз, с непривычки, принимали панские визиты, как пугались бабы и девки, как они, словно шальные, опрометью кидались в хлевы и закуты прятаться от панского посещения, как ребятишки при виде такой паники начинали реветь и визжать со страху, как недоумелые хлопы долго не могли взять себе в толк, что это мол «визит», а не беда какая, не реквизиция, грозящая разорением и ссылкой или солдатчиной, и наконец, как скверно пахнет, какой воздух тяжелый и отвратительный в этих грязных, поганых, противных хатах, такой тяжелый и так это там все грязно, что нужны, мол, вся сила гражданского мужества и все самоотвержение ради великого дела, ради отчизны, чтобы решаться на подобные визиты, но… это необходимо, этого требует долг.
Вслед за тем пан Селява-Жабчинский очень юмористично, обращаясь преимущественно к дамам, рассказал, как они с паном Котырло, чуть не каждый раз стукаясь об низкие притолки дверей, входили в своих фраках и раздушенных перчатках в эти противные хаты, как пожимали руку хлопу (хорошо, что хоть рука-то в перчатке), как рассаживались на лавке, словно в великосветской гостиной, и приглашали хлопа садиться рядом с собою, но глупый хлоп только кланялся да все пятился от них подальше, либо к печке, либо к двери; как они расспрашивали о том: "все ли он в добром здоровьи? Как поживает его супруга? Что детки поделывают? Хорошо ли идет хозяйство и пр."; как объясняли ему, что теперь он такой же пан, как и они, такой же гражданин равноправный, и что они, мол, все вместе, без всяких различий, один и тот же народ, одни и те же дети общей матери Польши, а глупый хлоп, все-таки с непривычки же на первый раз, только глазами хлопал да кланялся учащенно.
— Впрочем, ничего! доброе начало положено! А там все пойдет уже само собой! — утешался розовой надеждой либерально-шляхетный посредник.
Слушатели с живым участием внимали его веселому рассказу, который очень часто прерывался их неудержимым смехом; но этот смех относился никак не к самому пану Селяве-Жабчинскому.
Хвалынцев, хотя и не вполне еще понимал по-польски, но все-таки понял вею сущность рассказа. Сначала он, по некоторому малодушию, из чувства условного приличия относительно гостеприимных хозяев, которые так искренно и так усердно хохотали, тоже состроил было нечто вроде смеющейся гримасы, но потом, почувствовав весь смысл панского издевательства, он ощутил в душе присутствие некоторого злобного настроения. Ему стало не то гадко, не то больно от этого цинического насмехания и от всего этого бесконечно-иезуитского лицемерия, которое побудило либеральных панов делать визиты, любезничать и толковать о слиянии и равноправности со своими жалкими хлопами, которых эти господа столь глубоко и столь шляхетно презирают.
"Нет! тут опять-таки что-то не то! Опять-таки фальшь какая-то!" подумалось ему снова, и опять в душе защемила боль неясного сомнения.
Деревенский помещичий день проходит главнейшим образом в еде, и едою же подразделяется на части: от чая до закуски, от закуски до завтрака, от завтрака до новой закуски, а там до обеда, до лакомства разными вареньями и сластями, до чая, до ужина, после которого эта растительная жизнь завершается сном богатырским на мягких перинах.
В течение всего утра Хвалынцев вдосталь находился и насмотрелся на всевозможные хозяйственные учреждения пана Котырло, так что не грех было и устать, а потому после сытого и, по обыкновению, польски жирного обеда, ему стала-таки улыбаться заманчивая мысль: пойти и прилечь на часочек. Он отправился в отдельной флигелек, где еще со вчерашнего вечера для него и Свитки была отведена комната и где постоянно помещалась контора пана Котырло, в которой, как бы в некоем центральном министерстве, сосредоточивалось управление всеми сельскими и экономическими делами. Комната, занимаемая Хвалынцевым, отделялась от этой конторы одной лишь тонкой дощатой перегородкой, которая, впрочем, доходила вплоть до потолка, но изобиловала достаточным количеством щелей между досками, и эти щели волей-неволей давали полную возможность отчасти видеть и в совершенстве слышать все, что происходит за стеной.
Хвалынцев, питая в душе сладкую надежду на послеобеденный сон, нарочно постарался уйти никем не замеченный, из опасения чтобы паненки так или иначе не завладели его особой, а паче всего не вздумали бы затеять какие-нибудь petits jeux или засадить его за разбитые клавикорды. Маневр ему удался, и потому, пробравшись через двор в свою комнату, он спустил на окошке мату, очень искусно сплетенную из соломы домодельной работой, устроил в комнате полную темноту, улегся самым удобным образом и тотчас же заснул. Но не прошло и получаса, как сквозь сон до него стали долетать отзвуки какого-то говора, которые наконец-таки и разбудили его. Говорили за стеной в конторе. Хвалынцев перевернулся на другой бок и зажмурил глаза в надежде заснуть вторично. Не тут-то было: застенные разговоры принимают все более и более оживленный характер, и Хвалынцев, хочешь не хочешь, поневоле должен слушать их. Тем не менее, надежда на сон пока еще не окончательно его оставила: он всячески старался уснуть, не обращая внимания на говор, но через несколько минут, с досадой в душе, должен был оставить свои приятные надежды.
За стеной очень явственно можно было различить голоса мирового посредника, самого пана Котырло и нескольких крестьян. Что это голоса крестьянские, Хвалынцев сразу угадал по тому сдавленному, гортанному звуку голоса, которым обыкновенно говорят слабогрудые люди и который служит одним из характеристичных признаков белорусского крестьянина. И помещик, и посредник совокупными усилиями старались, по-видимому, в чем-то убедить призванных хлопов и относились к ним необыкновенно мягким, ласковым, вразумляющим тоном. С мужиками разговор у них шел на том смешанном, не то польском, не то белорусском наречии, которое, кажись, является продуктом чуть ли не местного изобретения самих же панов для объяснений с их хлопами. По крайней мере, польский пан никогда не объясняется с белорусским крестьянином ни на чистом польском языке, как на не совсем понятном для белорусса, ни на местном наречии, искони почитаемом «хлопским», то есть унизительным для шляхетного пана; поэтому житейская практика панов и выработала здесь эту средне пропорциональную мешанину.
Хвалынцев, слушая поневоле, вскоре стал догадываться и разуметь, о чем именно идет дело за стеною. Мировой посредник вместе с паном Котырло всячески старались втолковать мужикам, что если они желают на будущее время остаться крестьянами и получить на выкуп ту самую землю, которой они искони и по сей день пользуются, то "по закону" им придется платить в год по сорока рублей серебром за участок, но что помещик, пан Котырло, "от своей ласки панской", от всего чистого своего сердца желает им, хлопам, сделать добро за всю их верную службу, а потому великодушно соглашается отдать им ту самую землю на аренду по двадцати рублей в год за участок; но согласие свое на это дает в том только случае, если они из крестьян перейдут в дворовые, а этот переход в дворовые будет для них "незличито выгоден" в том отношении, что они-де, будучи дворовыми, будут пользоваться льготой и от платежа податей, и от рекрутчины, и что все это в высшей степени благодетельное для них дело есть такой пустяк, в сущности, что стоит лишь им, хлопам, не теряя золотого времени, сейчас же подписать добровольный акт, что они-де отказываются от своих прав на выкуп их участков, а оставляют те участки у себя в аренде — вот и все! А уж перечисление их в дворовые совершится самым законным путем, и это-де не ихняя уже забота, так как сам пан Котырло с паном посредником постараются об этом, но что во всяком случае дворовым быть и гораздо почетнее, и гораздо выгоднее, чем крестьянином, и что пан Котырло единственно из своей ласки панской, из великодушия, для их же добра предлагает им такую прекрасную сделку.
"Мм… не дурно", думает про себя Хвалынцев; "у пана Котырло, как видно, губа-то не дура. Двадцать рублей вместо сорока, аренда вместо выкупа, а в результате, на действительном-то факте одно лишь круглое обезземеленье хлопа… крестьянский пролетариат, вечная зависимость от пана — ей-Богу не дурно! и в то же время гуманные школы, гуманное «слияние», визиты к хлопам, высокие идеи о вольной отчизне, да что же это, однако! И неужели те не поймут и согласятся?"