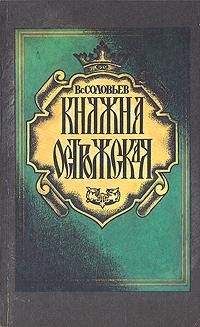У князя Константина был также свой почетный домашний караул, в котором числилось несколько сотен казаков, валахов, венгерской пехоты и немецких драгун. Около восьмисот молодых шляхтичей, пажей и паненок дополняли придворный штат замка, содержание которого поглощало половину громадных доходов князя Острожского, другая же половина отдавалась им на дело распространения и поддержания православия.
И вся эта масса разнообразного, разнохарактерного люда была теперь в сборе и предавалась чисто необузданному веселью. Бесчисленной прислуге то и дело приходилось выносить из столовых почетных гостей, слишком усердно оказавших честь сокровищам княжеских погребов. Маршал то и дело отдавал своим помощникам приказания восстановлять тишину то в одном, то в другом покое…
Подальше от толпы, от блестящей молодежи, окружавшей нарядных женщин, в укромном углу прохладной столовой, собралось человек двадцать шляхтичей и военных. Тяжелые серебряные кубки то и дело наполнялись темным, душистым венгерским. Собеседники, очевидно, были увлечены равно для всех интересным разговором.
Между ними обращала на себя внимание толстая, несколько комичная фигура шляхтича Галынского, приближенного и любимца молодого князя Сангушки. Круглое добродушное лицо его было еще краснее обыкновенного; он молодецки закрутил свои бесконечные усы, сдвинул брови и сверкал глазами.
– Подумайте, люди православные, до чего у нас ноне доходить стало! – горячился он, стуча красным, жирным кулаком по столу, так что густое вино колыхалось в стопах и кубках. – Что мы такое? вольные люди или рабы короля польского? Что такое наша вера святая, что отдают ее на посмешище и позор великий? Только и слышишь, что король такой-то да такой-то монастырь отдал своему холопу, дьяку канцелярскому… а то и сами наши пастыри чинят всякие беззакония… И год от году все хуже да хуже. Сначала один волк был, львовский епископ Арсений, тот, что ограбил и в разор ввел монастырь Уневский; а теперь, прости Господи, почитай каждый епископ, каждый архимандрит – зверь лютый и разоритель… Наедет этот епископ на монастырь, награбит все добро запасенное, да еще и гневом королевским стращает: вот, мол, пикните только, так отдадут вас пану польскому, тот с вас по семи шкур драть станет…
– Это точно, это так! – вмешался другой шляхтич. – И срам-то какой: духовенство православное так и лезет в Краков с жалобами друг на друга… Случилось мне недавно, по делу пана моего милостивца, съездить в Краков… Ну и навидался же я соблазнов… Эти пастыри наши духовные, столпы нашей веры, ругаются как псы, тайно задаривают дьяков королевских, ищут как бы извести друг друга. Чего уж тут ждать путного – того гляди продадутся все не то папе римскому, не то немецкого монаха апостолом признают.
– А слыхали? – робко и оглядываясь по сторонам заговорил какой-то маленький, невзрачный старик. Наша-то княгинюшка Слуцкая, опять позабыла гнев королевский. Ну вот не может спокойно жить, да и только! Послала намедни грамоту Трифону Огольскому, своему наместнику. Так и пишет: ты, говорит, митрополита не бойся, не те времена, что прежде, король в мои дела не станет уж вступаться. Провинился в чем перед тобой поп – ты и суди его своей властью; в тюрьму, так и в тюрьму его – и то разрешаю. А если, говорит, муж на жену, али там жена на мужа жалобу принесут, то ты жалобу ту выслушай, да и учини расправу, дозволяй и развод – коли нужно… Верите—ли – сам, своими вот этими глазами читал грамоту – ведь ее сочинял-то Матвей Петрович, друг мой и благоприятель…
И маленький старик обвел присутствовавших удивленными глазами.
– Дела, дела! – снова закричал Иван Петрович Галынский, волнуясь и расстегивая на все пуговици кафтан, в котором ему становилось чересчур уже тесно. – Дела! как послушаешь – инда тошно становится… Но пуще всего беда нам от королевского права подаванья. Ну и статочное ли это дело, монастырь православный отдавать светскому, да зачастую еще и католику – ляху! Ведь это что ж такое! Ведь этому нужно конец положить на сейме… неужто ж князь Константин Константинович допустит долее такое посрамление!
Никто не заметил, что сам хозяин стоял у двери и прислушивался к разговору.
– Думаю я, друг, как бы пресечь это зло, да много ли тут сделаешь, коли люди горазды стали по углам шептаться, а до дела дойдет – отмалчиваются, – сказал князь Константин, подходя к столу.
Собеседники вздрогнули от неожиданности, быстро и почтительно встали перед князем.
Галынский тщетно пробовал застегнуть кафтан и даже оторвал одну пуговицу.
Князь не обратил никакого внимания на признаки почтительного страха, возбужденного его появлением.
Да вряд ли он их и заметил – он так давно привык встречать их повсюду.
Он продолжал:
– Мы уж немало толковали с митрополитом Ионой. Порешили так: для начала я молчать буду, а все возьмет на себя митрополит. Он готовит к королю много просьб и непременно представит на сейме убедительное прошение, чтобы власть духовную не отдавать людям светским… Если же король отдаст духовную должность светскому человеку, и этот в течение трех месяцев не примет сан духовный, то дабы дано было право владыке отбирать от такого человека достоинства и хлебы духовные а отдавать их людям духовным. Авось король одумается и исполнит нашу просьбу. Ну а нет, так придется действовать иначе… Радуюсь, друзья мои, видя, что вам близки дела эти, только будьте тверды, не забывайте, что дело церкви Божьей – прежде всего, прежде всех дел человеческих. А это теперь совсем стали забывать православные люди. Много зла не от нас, но главное зло от нас, в душах наших пустило оно свои корни… Зло тяжелое и истинная погибель наша – оскудение в нас веры и благочестия…
И князь, грустно опустив голову, прошел дальше.
Он подходил то к одной, то к другой кучке. Здесь и там бросал свое слово, прислушивался к разговорам, подмечал господствовавшее настроение перед открывавшимся в скором времени сеймом, наблюдал за своими гостями.
Эти наблюдения были далеко не утешительны.
Разговоров о делах настоятельных и важных было слышно мало. Передавались сплетни, хвастались и лгали безбожно, втихомолку посмеивались друг над другом; иные гости едва ворочали языком и тупо глядели помутившимися от вина глазами.
Женщины кокетничали напрополую. Летали страстные взгляды, намеки. Здесь и там, среди шума и движения толпы внимательный взгляд мог заметить то робкие, то страстные пожатия рук, чуткое ухо могло подслушать любовные признания, многие тайны обманутых мужей и жен, зарождение семейных драм и скандалов…
Мы знаем из достоверных свидетельств современников печальные подробности литовской общественной жизни того времени. Мы знаем, что на роскошных пирах и балах вельмож литовских царствовали уже самые испорченные нравы, что женщины высшего общества, по словам одного летописца, соперничали не в добродетелях, а в бесстыдстве. Девушка вельможного рода, жена знаменитого князя, часто втихомолку заводили интриги с ничтожными шляхтичами, услужниками своих отцов и мужей. Это было дело вовсе не понятий о равноправности всех сословий, не протест против кастовых взглядов – литовская женщина XVI века была чрезвычайно мало развита и образованна – это было дело необыкновенной испорченности нравов, отсутствия всяких твердых правил. Цинизм проглядывал не только в поступках, но даже и в речах. Женщины перестали стыдиться и отказались от всякой хотя бы чисто внешней скромности…
В огромном «золотом» зале замка танцевали бесчисленные пары. Неутомимый оркестр переходил от одной мелодии к другой, от одного темпа к другому. Здесь оживление достигало своего высшего предела. Одно за другим быстро мелькали разгоряченные лица. Молодые женщины и девушки были буквально залиты драгоценными камнями, сияли дорогими причудливыми нарядами. Летучие фразы, остроты, насмешки, улыбки и откровенный смех перекрещивались в общем вихре…
Хорошенький Федя из свиты Сангушко танцевал с панной Зосей. К нему так шел его шитый золотом кафтан и маленькие пушистые усики, оттенявшие румяные губы. Она была тоже очень красива с длинными косами, переплетенными жемчугом, со своими черными выразительными глазами. Оба они были так молоды, так полны жизни… они крепко держались за руки, были так близко друг к другу… Им ли не наслаждаться этим быстрым, увлекательным танцем, этими влюбленными звуками нежной итальянской музыки, им ли не глядеть в глаза друг другу и читать в них первые строки зарождающейся страсти…
А между тем и хорошенький, статный Федя, и хорошенькая Зося были рассеяны и только из приличия едва перекидывались несколькими фразами. Зося глядела по сторонам, не мелькнет ли где черная, высокая фигура бледного человека. Несмотря на всю свою молодость, она сегодня не могла наслаждаться балом, она даже не замечала весь день обращенных на нее влюбленных взглядов более чем десятка красивой молодежи, не слушала самых лестных комплиментов. Ей хотелось уйти из этих залов в самую глубь покоев княгини Беаты, в тихую каплицу, где одетая в белое атласное платье, с длинным шлейфом, с золотою маленькою короною в волосах стояла точенная из дерева, раскрашенная статуя Мадонны. Ей хотелось у ног этой статуи слушать тихие речи прекрасного исповедника, чувствовать его тонкую руку на голове своей… Ее страсть к Антонио разгоралась все сильнее и сильнее… Федя тоже следил за кем-то, за далекой, светлой фигурой, от которой весь день не мог он отвести своих глаз и своего сердца.