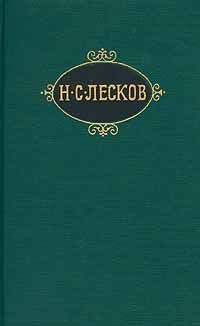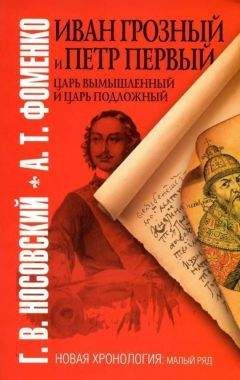Та явилась как лист пред травой.
– Я тебя не звала, мне показалось – мыши…
Ольга Федотовна отошла и стала лицом к образнику.
Бабушка подождала и потом окликнула:
– Ольга, что ты там делаешь?
– Лампад поправляю-с, – отвечала Ольга Федотовна, и в это же самое мгновение поплавок лампады юркнул в масло, и свет потух.
– Скора, матушка, прекрасно поправила… И главное, кто тебя об этом просил? лампада прекрасно горела, так нет…
Но в это время Ольга Федотовна подошла впотьмах к бабушкиной постели и прошептала:
– Ваше сиятельство! я пришла повиниться.
Бабушка бог знает что подумала и тревожно отвечала:
– Что такое? что такое? это ни на что не похоже… поди от меня с своею виной; я ничего не хочу знать.
– Ваше сиятельство… я самое безвредное!
Княгиня пожала плечами и молвила:
– Вот пристала!
– Теперь я Василью Николаичу не помеха: он меня любить не может.
Бабушка повернулась в постели и спросила:
– Отчего?
– Мы с ним сегодня у мужика младенца крестили.
Бабушка села в кровати и произнесла:
– Ольга, ты глупа.
– Ваше сиятельство, это так надо было-с.
– Нет, ты извини меня: я всегда думала о тебе, что ты гораздо умнее, а ты положительнейшим образом глупа: Вася мог окончить курс в академии и остаться тебе верен и тогда бы на тебе женился, а теперь вы кумовья – куму на куме никогда жениться нельзя.
– Я это знала-с, я все знала и нарочно сделала.
– Зачем, говори мне, зачем?
– Чтоб им обо мне не думалось; чтоб я… им не мешала; чтоб из памяти меня выкинули, – отвечала бедная девушка и зарыдала.
Бабушка встала с кровати, сама зажгла лампаду и, севши потом в кресло, сказала:
– Удивила ты меня, но он мне еще более тебя удивителен: как же он на это согласился? Неужели я в нем ошиблась, и он тебя мало страстно любит?!
Это словечко кольнуло самолюбие Ольги Федотовны: в ней поднялась гордость женщины, всегда готовой упиваться сознанием, что ее много любят.
– Нет-с, – отвечала она, – они меня истинно как должно любят, а это что они крестили – все через мое коварство случилось.
– А где же его голова-то была?
– Не могли-с они пред моим обольщением своею головою управлять, а после, дав мне слово, бесчестным быть не хотели, – отвечала не без гордости и не без уважения к себе Ольга Федотовна.
Не зная, как должно понимать все недомолвки этой обольстительницы злополучного богослова, бабушка, отложив всякие церемонии, сказала:
– Ты если хочешь говорить, то здесь только бог да мы двое, – так ты говори откровенно, что ты набедокурила?
– Одного этого теперь только и желаю: открыться.
– Ну и откройся.
Ольга Федотовна и начала.
Рассказав бабушке со всей откровенностью, как ей стали известны затруднения Марьи Николаевны, девушка в трагической простоте изобразила состояние своей души, которая тотчас же вся как огнем прониклась одним желанием сделать так, чтобы богослов не мог и думать на ней жениться. За этим решением последовало обдумывание плана, как это выполнить. Что могла измыслить простая, неопытная девушка? Она слыхала, что нельзя жениться на куме, и ей сейчас же пришло в голову: зачем она не кума своему возлюбленному?
– Тогда бы он не мог ко мне свататься и вышел бы в архиереи.
Так заключила Ольга Федотовна, постоянно заменяя по какой-то случайности слово «профессор» словом «архиерей». И, раз попав на эту мысль, она вдруг стала искать средств: нельзя ли это поправить? В конце концов это ей показалось хотя и довольно трудным, но сбыточным, если пустить в ход все ей известные средства. И вот Ольга Федотовна, забрав это в голову, слетала в казенное село к знакомому мужичку, у которого родился ребенок; дала там денег на крестины и назвалась в кумы, с тем чтобы кума не звали, так как она привезет своего кума. Во всем этом она, разумеется, никакого препятствия не встретила, но труднейшая часть дела оставалась впереди: надо было уговорить влюбленного жениха, чтоб он согласился продать свое счастье за чечевичное варево и, ради удовольствия постоять с любимою девушкою у купели чужого ребенка, лишить себя права стать с нею у брачного аналоя и молиться о собственных детях. Это, конечно, хоть какому уму была задача нелегкая. Но Ольга Федотовна разрешила ее блистательно.
Угадывая инстинктом природу молодой страсти своего возлюбленного, Ольга Федотовна не решилась ни на какие прямые с ним откровенности. Она правильно сообразила, что этим она его не возьмет, и обратилась к хитрости, к силе своих чар и своего кокетства.
Навестив в сумерки одного дня Марью Николаевну, Ольга Федотовна нарочно у нее припоздала, а потом высказала опасение идти одной через бугор, где ночевала овечья отара, около которой бегали злые сторожевые собаки. Влюбленный студент не смел вызваться быть ее провожатым, но она сама его об этом попросила: богослов, разумеется, согласился; он выдернул из плетня большой кол, чтобы защищаться от собак, и пошел вслед за своею возлюбленною. Дорога была нехороша; днем выпал дождик, и суглинистая земля смокла и осклизла. Ольга Федотовна плохо ступала: она была, как назло, в новых башмачках, и ее маленькие ножки беспрестанно ползли назад или спотыкались.
Если она к этому прибавляла что-нибудь с намерением дать понять своему сопутнику, что ей очень трудно идти одной без его поддержки, то, вероятно, делала это с большим мастерством; но тем не менее румяный богослов все-таки или не дерзал предложить ей свою руку, или же считал это не идущим к его достоинству.
Ольга Федотовна решилась прервать это затруднение.
– Василий Николаич, – сказала она, – что вы это сзади меня идете?
– А что же такое?
– Да так, нехорошо… вы точно служитель.
– Ничего-с.
– Нет, вы бы лучше рядом шли да мне бы руку дали, а то очень склизко.
– С большим моим удовольствием, – отвечал богослов.
– Или вам, может быть, со мной под руку стыдно и неприятно идти?
– Нет, отчего же… напротив, даже очень приятно.
– Вы, впрочем, откровенно скажите: если стыдно, так вы не беспокойтесь.
Богослов еще раз повторил, что ему приятно, и они взялись под руки, но разговор у них прекратился, а дорога убывала. Ольга Федотовна видела, что спутник ее робок и сам ни до чего не дойдет, и снова сама заговорила:
– Вы, Василий Николаич, много учились?
– Много-с.
– И ведь трудно небось?
– Ничего-с.
– Как же… есть науки трудные.
– Есть-с.
– Ну так как же с ними?
– Преодолеваешь.
– И секут?
– Секут-с.
– И вас там секли?
– Непременно-с, как и всякого.
– И слукавить нельзя?
– Нельзя-с.
– Отчего же?
– Потому что это всегда перед начальством делается.
– Неужто начальник смотрит?
– Постоянно-с.
– Ах боже мой! а он светский или монах?
– Монах-с.
– Монах!
– Наверно так-с.
– Так это ведь как же, должно быть конфузно?
– Отчего же?
– Да при монахе-то?
– Нет-с; в молодых годах ничего, и потом больно, так не разбираешь.
– Видите ли! а вы сколько лет там находились?
– Тринадцать-с.
– Ах боже мой! И какое число несчастливое.
– Это предрассудок-с.
– А ведь скажите: в науках о сердце ничего не говорится?
– В каком смысле?
– Чтобы как любить должно и как мужчине с женщиной обращаться?
– Ничего-с.
И разговор снова смолк, а пути между тем осталось еще менее. Ольга Федотовна вспомнила, о чем, бывало, слыхала в магазине, и спросила:
– Вы, Василий Николаич, умеете танцевать?
– Нет-с, не умею.
– Очень жаль: в танцах кавалеры с девицами откровенно объясняются.
– Да это если ловкий кавалер, так и не в танцах можно-с.
– Например, как же?
– Стихами или задачею: что лучше – желать и не получить, или иметь и потерять; а то по цветам: что какой цвет означает – верность или измену.
– А вы к измене или к верности склонны?
– Я измены ненавижу.
– Вы неправду говорите.
– Почему же неправду?
Ольга Федотовна решительно не знала, куда она идет с этим разговором, но на ее счастье в это время они поравнялись с отарой: большое стадо овец кучно жалось на темной траве, а сторожевые псы, заслышав прохожих, залаяли. Она вздрогнула и смело прижалась к руке провожатого.
– Вы боитесь? – спросил, взмахивая колом, богослов.
– Нет, не боюсь… А вот уже и дом близко.
– Да; близко-с, – отвечал, вздохнув, богослов.
Ольга Федотовна пожала к себе его руку и, отворотясь от него в сторону, проговорила:
– Василий Николаич!
– Что вам угодно, Ольга Федотовна?
– О чем вы вздыхаете?
– Я не вздыхал-с.
– Нет, вы вздохнули.
– Может быть-с.
– Так о чем же это?
– Этого сказать нельзя-с.
– Почему же нельзя?
– Потому что вы можете обидеться.
– Ну, это, стало быть, вы меня не любите.
– Кто это?.. я вас не люблю! – вскричал богослов.
– Ах, что вы это, Василий Николаич, так громко. Это надо тише.