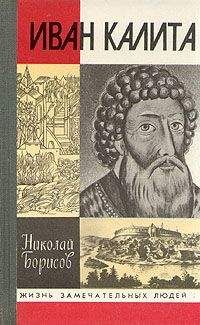Ну а фрукты — совсем другое дело!
ФОРМЫ ТЕПЛА ЖАРА
Я сплю на крыше. Поперек ущелья. В ногах хребет и в головах хребет. Солнце восходит из-за моей головы, вернее, из-за тех гор, что у меня в головах. Оно высовывается из-за острого гребня: долька, половинка… И вдруг встает на гребень, румяное и круглое, как колобок. Кажется, крикни, и оно покатится вниз по склону. До самой нашей базы. Солнце высовывается из-за гребня, и начинается перестановка, перераспределение света и тени. Лучи падают на вершины противоположного гребня, того, что у меня в ногах. Линия, разделяющая освещенную верхнюю часть гребня и теневую нижнюю, сползает вниз. А солнце поднимается вверх. Вот и весь склон освещен. Тени бегут. И даже на дне, где находится наш поселок и особенно застоялась тень, даже тут светлеет. Свет занимает окраинные дома поселка и стремится к центру. Подобрался к моей крыше, осветил ноги. Ногам становится жарко под ватным одеялом, сон слабеет. И вот свет ударяет в лицо, будит. Помычишь, покрутишь головой — проснешься. Делать нечего — солнце.
А если сон так крепок, что не проснешься от первых лучей, то все равно проснешься вскоре. Но проснешься разбитый, мятый, смурной. И целый день будешь ползать как муха.
А солнце стоит где-то над нами. И освещает уже и левый склон, и правый, и дно ущелья. А ведь еще так рано… и ты совсем не выспался.
Куда деться от солнца?
Дома накаляются, в комнатах душно и набиваются мухи. А деревьев тут нет. Ни сени, ни шума листьев. Нету деревьев. Единственная тень — от домов. Выносишь койку, приставляешь к стенке, в тень. А тень уменьшается, тает. И становится шириной в полкровати. Больше не поспишь… Можно еще так полежать. Но вдруг сетка под тобой начинает ходить ходуном. Оказывается, под кровать забился козлик и пытается устроиться поудобнее. Под кроватью — тень. Выгонишь козлика — там спрячутся куры: им там достаточно тени и места.
А настырное солнце лезет и лезет вверх.
Весь поселок вымер. Даже непонятно, куда все попрятались. Начинаешь слоняться по поселку. Никогда в жизни не приходилось бродить так медленно. Зайдешь на кухню: что будет на обед? Уйдешь из кухни: мыслимое ли дело стоять в такую жару у плиты? Зайдешь в клуб, шуганешь шара, он замечется по бильярду… Выйдешь из клуба… Тот же назойливый, надоедливый свет. После темного клуба ломит глаза. Та же жара.
Вдоль домов узкая, полуметровая тень. В ней, прижавшись мохнатым боком к стене, выстроились козы, нос в хвост. Они стоят тихо-тихо, как неживые. Если бы они встали поперек, им бы уже не хватило тени.
Три часа. Самая жара. Пора на смену.
Я подхожу к трубе, из которой узкой струйкой журчит в бочку вода. Подставляю голову. И направляюсь в гору. С волос течет по груди, за шиворот, по спине: приятно. Два километра вверх, в гору, до нашей вышки. Через полкилометра голова суха, а тело мокрое, но уже от пота.
Доползешь — и полчаса отходишь в тени вышки. И пьешь, пьешь…
Но вот с гиком и улюлюканьем побежала вниз предыдущая смена. Их смена кончилась.
Наша началась.
Вставай к станку. Жара…
А там, в глубине, где мы не видим, куда рвемся, — прохладно. Там наша цель — в глубокой и твердой прохладе руды: медь.
И от слова «медь» — еще жарче.
ТАШКЕНТ
В данном случае это не город. Это костер.
Ночью в горах холодно. Пробирает до костей. И темно, конечно. Особенно если луны нет. А луны, как ни странно, все больше нет. Из-за гор, может быть, не видать?
Ночная смена. Пока подымешься — разогреешься, взопреешь. А вышка на гребне — со всех сторон ветер. И сразу начинаешь зябнуть. Натянешь ватник все равно. Станок крутится. Сидишь и стынешь.
— Заделаем Ташкент? — говорит Толик.
— Заделаем, — говорю я.
Насобираем вокруг вышки негодных ящиков, досок, Щепок — этого барахла всегда скопится за день. Соберем это в кучу, плеснем солярки…Горит!
Жарко, ярко. Сразу как-то веселее на душе. Огонь мечется, пляшет, подставляя бока ветру. Куда кинется язык, отступает ночь. А вокруг она сгущается еще больше, еще чернее. Мы с костром — словно это весь мир, площадь которого — свет костра. И больше ничего никогда не было.
Лежим у костра, смотрим в огонь. Иногда на станок: как он там крутится? И снова в огонь. Разговариваем. Говорим словно не друг другу, а костру. Подбрасываем в огонь слова…
— Какая она была красивая!.. — Это Толик. — Она была главврач поликлиники, а я шофер. Возил ее. Однажды она сказала: «Сегодня нам никуда не надо — поехали купаться». А я был молодой, красивый — не то что сейчас. Веселый был. Поехали мы купаться. Красивая была… Покупались, потом она говорит: «Поехали к тебе, хочу посмотреть, как ты живешь». Ну поехали… Я еще по дороге домой позвонил: хозяйка моя, такая старушка, — все понимала… Приезжаем — уже столик накрыт, коньяки, закусочка. Деньги у меня тогда водились. Холостой был — зарабатывал неплохо. Выпили мы хорошо… Песни попели. Я на гитаре. Она так… Эх, сейчас бы гитару!
— И я помню. — Это говорю я. — У меня тоже…
— Вот какие дела. — Толик словно не слышит и про должает: — И еще была… Дочка директора театра. Я тогда в Куйбышеве работал. Какая была! Одевалась… каждый день новое платье. Ну каждый день. Я сначала и не думал. Служил шофером в театре. Ну, возил ее иногда, конечно… Она сама меня пригласила: у меня, мол, день рождения, то да се…
И так полночи. Про красивую жизнь, про красивую любовь… Не иначе.
Вдруг замолчим. Смотрим в костер. Подбросим досочку, плеснем еще солярки. Развеселится, зашуршит огонь. Выплеснет в небо сноп искр.
— Ты посмотри за станком, я вздремну немного, — говорит Толик.
Натягивает воротник на голову, а голову втягивает в воротник. И, спящий, становится каким-то маленьким.
Я слежу за станком: гудит, крутится. Посмотрю на приборы: показывают.
Я лежу на животе. Подбородок на кулаках. Передо мной мир — пятно. Камешки. А за камешками — стена огня. И в этом мире развертываются свои события…
Огневки слетаются на свет. Вот одна, большая, уже опалив крылья, упорно ползет по камням к костру. Когда подползает слишком уж близко, испуганно бросается обратно, неуклюже взмахивая полуобгоревшими крыльями. И снова ползет к костру. Упорно делает одно и то же как заведенная.
Выпрыгнул из темноты кузнечик. Сел на камешек под самым моим носом. Сидел, грелся, шевелил усами. Смотрел на костер. Неподвижно, завороженно. Вдруг заволновался. Собрался: хорошо тут с вами… — и прыгнул обратно в темноту. Свои дела…
Выползла фаланга. Ее я казнил.
Смотрю на огонь… И вспоминаю, что уже было так. На берегу озера. Между озером и лесом. Тоже костер. И тоже палились на нем огневки! Только фаланг там не было. И так же, вобрав голову в плечи, спала моя жена…
Или как полз муравей по песку. Мы сделали в песке воронку и посадили на дно муравья. Он сразу же побежал по склону. Он очень торопился, но продвигался крайне медленно, потому что песок осыпался под ним. Но в конце концов он добирался до самого края воронки, и тут край обваливался… И он начинал все сначала. Он даже не медлил, чтобы собраться с силами, — сразу бросался по склону, вверх, вверх. И снова падал вниз, вниз… И все-таки выбрался. И побежал в том же направлении, словно ничего и не было, серьезный и организованный.
Мне бы так!..
Как редко видишь этот мелкий мир… Странно. За всю жизнь можно пересчитать по пальцам. И хватит одной руки.
Вот тоже было… Обиделся я как-то на всех и на все. Мир почернел. Я сел на электричку и уехал. Потом слез, шел, шел. Уже утихший, сладко жалел себя. Вышел на луг. И бухнулся в траву. Лицом вниз. Огромный, мощный лес встал перед моими глазами — трава. И жители этого леса
огромные звери. Я смотрел, смотрел… И как-то все встало на свои места. Я потом все собирался еще раз съездить. Все собирался.
Непонятно только, когда мы успели ко всему привыкнуть?
Самые обычные вещи: раннее утро, заход солнца, звездная ночь, зимний лес, костер, лунный свет на снегу, небо… Родной город, родной дом, любимые люди… Все-то мы знаем. А что мы помним? Два-три рассвета, запавшие в память на всю жизнь. Четкие, словно это было вчера. Одна-две лунных ночи. Всего одна-две.
Один раз (а то и ни разу) мы увидели небо над головой. Не так: «Смотри, какое небо!» — или: «Ах, какая голубизна!» — не так. А так, чтобы не уметь говорить — и небо, небо над головой, — все небо! Как увидел его князь Андрей на Праценской горе.
Почему мы не видим? Не удивляемся?
Может, некоторым выпало чего-то больше. Чего-то меньше. А у некоторых чего-нибудь вовсе не было. Это не важно. Важно, что все эти вещи чрезвычайно редки в каждой жизни…
Проснулся Толик. Растерянное, измятое лицо. Протягивает руки к костру, словно гладит.
Размывается чернота над хребтом. Светлеет. Догорает костер.
ПИШУТ ПИСЬМА
Забавное соображение приходит вдруг в голову: мне же гораздо ближе в Индию, чем домой. Во много раз ближе.