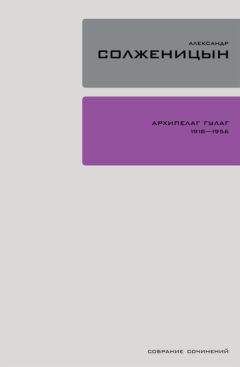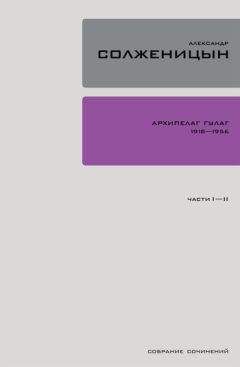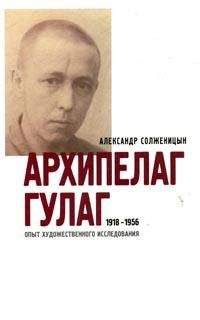С Украиной будет чрезвычайно больно. Но надо знать их общий накал сейчас. Раз не уладилось за века – значит, выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать решение им самим – федералистам или сепаратистам, кто у них кого убедит. Не уступить – безумие и жестокость. И чем мягче, чем терпимее, чем разъяснительнее мы будем сейчас, тем больше надежды восстановить единство в будущем.
Пусть поживут, попробуют. Они быстро ощутят, что не все проблемы решаются отделением[11].
* * *
Мы почему-то долго живём в этой длинно-конюшенной камере, и нас всё никак не отправят в наш Степлаг. Да мы и не торопимся: нам весело здесь, а там будет – только хуже.
Без новостей нас не оставляют – каждый день приносят какую-то газетёнку половинного размера, мне достаётся читать её всей камере вслух, и я читаю её с выражением, там есть, что выразить.
В эти дни как раз исполняются десятилетия освобождения Эстонии, Латвии и Литвы. Кое-кто понимает по-русски, переводит остальным (я делаю паузы), и те воют, просто воют со всех нар, нижних и верхних, услышав, какая в их странах впервые в истории установилась свобода и процветание. За каждым из этих прибалтов (а их во всей пересылке добрая треть) остался разорённый дом, и хорошо, если ещё семья, а то и семья другим этапом едет в ту же Сибирь.
Но больше всего, конечно, волновали пересылку сообщения из Кореи. Сталинский блицкриг там сорвался. Уже скликались добровольцы ООН. Мы воспринимали Корею как Испанию Третьей Мировой войны. (Да наверно, как репетицию Сталин её и задумал.) Эти солдаты ООН особенно нас воодушевляли: что за знамя! – кого оно не объединит? Прообраз будущего всечеловечества!
Так тошно нам было, что мы не могли подняться выше своей тошноты. Мы не могли так мечтать, так согласиться: пусть мы погибнем, лишь были бы целы все те, кто сейчас из благополучия равнодушно смотрит на нашу гибель. Нет, мы жаждали бури!
Удивятся: что за циничное, что за отчаянное состояние умов? И вы могли не думать о военных бедствиях огромной воли? – Но воля-то нисколько не думала о нас! – Так вы что ж: могли хотеть мировой войны? – А давая всем этим людям в 1950 году сроки до середины 70-х, – что же им оставили хотеть, кроме мировой войны?
Мне самому сейчас дико вспоминать эти наши тогдашние губительные ложные надежды. Всеобщее ядерное уничтожение ни для кого не выход. Да и без ядерного: всякая военная обстановка лишь служит оправданием для внутренней тирании, усиляет её. Но искажена будет моя история, если я не скажу правды – что чувствовали мы в то лето.
Как поколение Ромена Роллана было в молодости угнетено постоянным ожиданием войны, так наше арестантское поколение угнетено было её отсутствием, – и только это будет полной правдой о духе Особых политических лагерей. Вот как нас загнали. Мировая война могла принести нам либо ускоренную смерть (стрельба с вышек, отрава через хлеб и бациллами, как делали немцы), либо всё же свободу. В обоих случаях – избавление гораздо более близкое, чем конец срока в 1975 году.
На это и был расчёт Пети Пикалова. Петя Пикалов был в нашей камере последний живой человек из Европы. Сразу после войны все камеры забиты были этими русаками, возвращавшимися из Европы. Но кто тогда приехал – давно в лагерях или уже в земле, остальные зареклись, не едут, – а этот откуда? Он добровольно вернулся на родину в ноябре 1949 года, когда уже нормальные люди не возвращались.
Война застигла его под Харьковом учеником ремесленного училища, куда он был мобилизован насильно. Так же насильно немцы повезли их, подростков, в Германию. Там он и пробыл «остовцем» до конца войны, там же сформировалась и его психология: надо стараться жить легко, а не работать, как заставляют с малолетства. На Западе, пользуясь европейской доверчивостью и пограничной нестеснённостью, Пикалов угонял французские автомобили в Италию, итальянские – во Францию и продавал со скидкой. Во Франции его, однако, выследили и арестовали. Тогда он написал в советское посольство, что желает вернуться в дорогое ему отечество. Пикалов рассуждал так: французскую тюрьму придётся отбыть до последнего дня, а могут дать лет десять. В Советском же Союзе за измену родине дадут двадцать пять, – но уже падают первые капли Третьей Мировой войны; Союз, дескать, не простоит и трёх лет, выгоднее сесть в советскую тюрьму. Друзья из посольства явились немедленно и прижали Петю Пикалова к сердцу. Французские власти охотно уступили вора[12]. Человек тридцать собралось в посольстве таких и близких к таким. Их с комфортом доставили на пароходе в Мурманск, распустили по городу погулять и в течение суток поодиночке всех переловили.
Теперь в камере Петя заменял нам западные газеты (он подробно читал процесс Кравченко), театр (на щеках и губах он ловко исполнял западную музыку) и кино (рассказывал и передавал в жестах западные фильмы).
До чего на Куйбышевской пересылке было вольно! Камеры порой встречались на общем дворе. С перегоняемыми по двору этапами можно было переговариваться под намордники. Идя в уборную, можно было подойти и к открытым (с решётками, но без намордников) окнам семейного барака, где сидели женщины со многими детьми (это всё из той же Прибалтики и Западной Украины слали в ссылку). А между двумя камерами-конюшнями была скважина, называлась «телефон», там с утра до вечера лежало по охотнику с двух сторон и переговаривались о новостях.
Все эти вольности нас пуще раззадоривали, мы прочней ощущали под ногами землю, а под ногами наших охранников, казалось, она начинала припекать. И, гуляя во дворе, мы запрокидывали головы к белесо-знойному июльскому небу. Мы бы не удивились и нисколько не испугались, если бы клин чужеземных бомбардировщиков выполз бы на небо. Жизнь была нам уже не в жизнь.
Встречно ехавшие с пересылки Карабас привозили слухи, что там уже вывешивают листовки: «Довольно терпеть!» Мы накаляли друг друга таким настроением – и жаркой ночью в Омске, когда нас, распаренное, испотевшее мясо, месили и впихивали в воронок, мы кричали надзирателям из глубины: «Подождите, гады! Будет на вас Трумен! Бросят вам атомную бомбу на голову!» И надзиратели трусливо молчали. Ощутимо и для них рос наш напор и, как мы ощущали, наша правда. И так уж мы изболелись по правде, что не жаль было и самим сгореть под одной бомбой с палачами. Мы были в том предельном состоянии, когда нечего терять.
Если этого не открыть – не будет полноты об Архипелаге 50-х годов.
Омский острог, знавший Достоевского, – не какая-нибудь сколоченная из тёса наспех ГУЛАГовская пересылка. Это – екатерининская грозная тюрьма, особенно её подвалы. Не придумаешь лучших декораций для фильма, чем камера здешнего подвала. Квадратное окошечко – это вершина наклонного колодца, там наверху выходящего на поверхность земли. По трёхметровой глубине этого проёма видно, что тут за стены. И потолка-то в камере нет, а глыбой нависают сходящиеся своды. И мокра одна стена: насачивается вода из почвы, подтекает на пол. Утром и вечером здесь темно, ярким днём – полутьма. Крыс нет, но чудится, что ими пахнет. И хотя своды свисают так низко, что до них местами достаёшь рукой, – умудрились тюремщики и сюда встроить двухэтажные нары, нижний настил едва над полом, у щиколотки.
Этот острог должен был бы, кажется, подавить те смутные бунтарские предчувствия, которые росли в нас на распущенной Куйбышевской пересылке. Но нет! Вечером при лампочке ватт на пятнадцать, слабенькой, как свеча, лысый остролицый старик Дроздов, ктитор одесского кафедрального собора, становится у глуби оконного колодца и слабым голосом, но с чувством кончающейся жизни поёт старую революционную песню:
Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка черна.
Чернее той ночи встаёт из тумана
Видением грозным – тюрьма!
Он поёт только для нас, но тут хоть и громко кричи – не услышат. При пении бегает острый кадык под сухой бронзой его шейной кожи. Он поёт и вздрагивает, он вспоминает и пропускает через себя несколько десятилетий русской жизни – и дрожь его передаётся нам:
Хоть тихо внутри, но тюрьма – не кладбище,
И ты, часовой, не плошай!
В такой тюрьме да такую песню![13] Всё – в лад. Всё в лад тому, что ждёт наше арестантское поколение.
Потом мы раскладываемся спать в этой жёлтой полутьме, холоде и сырости. Ну а кто ж бы нам тиснул роман?
И раздаётся голос – Ивана Алексеевича Спасского, какой-то сводный голос всех героев Достоевского. Этот голос срывается, задыхается, никогда не покоен, кажется, в любую минуту может перейти в плач, крик боли. Самый примитивненький роман Брешко-Брешковского, вроде «Красной мадонны», звучит как эпос о Роланде в изложении этого голоса, проникнутого верой, страданием и ненавистью. И уж там правда это или чистый вымысел, но в память нашу врезается как эпос – Виктор Воронин, его пеший бросок на полтораста километров к Толедо и снятие осады с крепости Альказар.