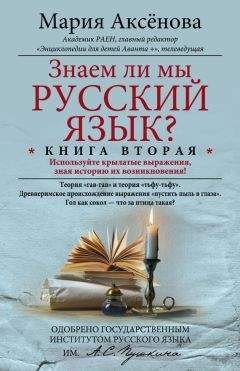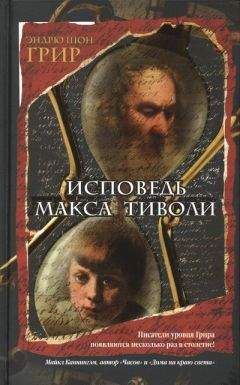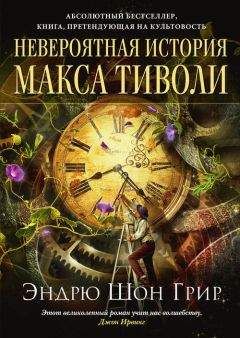сказал:
– Мы не воевали вместе. Ведь Базз был СО.
Базз кивнул.
– Правда? – сказала я, пораженная тем, что Холланд сообщил такие ошеломительные сведения.
– Тихий океан, – пробормотал сын, обращаясь к горошинам.
Сознательный отказчик. В Кентукки мы таких называли уклонистами. Предмет позора, табуированная тема для застольной беседы. В те дни вся страна готовилась к войне, и было принято считать, что такие мужчины нас позорят. Сачки, трусы. Как будто мужчина пошел к алтарю, а там сказал: нет, все-таки я на ней не женюсь. Быть уклонистом – необычайный выбор для молодого человека, и для моего мужа-солдата крайне странно иметь такого друга. Это не укладывалось у меня в голове. Но война была, как мы все знали, временем тайн. От такого откровения Базз покраснел. Теперь я понимала про него меньше, а не больше. Как он потерял палец, если не был в бою? Базз посмотрел мне в глаза и сказал: «Время было тяжелое», – но мне показалось, что он пытался сказать что-то другое.
– Эта горошина на меня смотрит, – сказал Сыночек, и я велела отложить ее в сторону.
– Нет, съешь эту горошину, – заявил Холланд.
– А как вы тогда познакомились? Если ты не был на войне? – спросила я Базза.
– В госпитале, Перли, – ответил Холланд и отпил пива. Он имел в виду тот госпиталь, куда сам угодил после того, как его корабль затонул в Тихом океане.
– Там что-то напортачили, и мы оказались в одной палате, – добавил Базз.
– Точно напортачили. В жизни у меня не было худшего соседа, – сказал Холланд.
– Я был очень аккуратный. И не доводил сестер, как некоторые.
– Не я!
Я положила им еще по одному куску, заметив, что Сыночек свой только раскрошил. Села за стол. Помолчав немного, я сказала:
– Но я не понимаю.
– Что, милая? – спросил Холланд.
– Как отказчик оказался в военном госпитале?
Горошина прокатилась мимо солонки и упала со стола.
– Ой-ей, – сказал сын.
Холланд уже открыл рот, чтобы ответить, но Базз опустил вилку и сказал:
– СО были в ведении армии. Нас поместили в военный лагерь на севере. – При словах «на севере» он показал куда-то за пределы дома. – А меня отправили в тот госпиталь, потому что я был «пункт восемь».
– «Пункт восемь»?
– Да. Я немножко сошел с ума.
Я взглянула на Холланда, он отвел глаза. Невозможно обсуждать все это так непринужденно.
– Пирог малышки Бо Пип! – крикнул Сыночек. Он давил горошины на тарелке и не обращал внимания на разговоры про войну.
Я сидела молча, помогая Сыночку доесть его порцию. Я никогда не спрашивала мужа, от чего его лечили или в каком отделении он лежал. Я знала, что его корабль затонул, и представляла, что он пострадал от возгорания нефти или от соленой воды. Но «пункт восемь» означал психические отклонения, а эти двое лежали в одной палате, в одном отделении. Что этот океан с ним сделал? Я не могла заставить себя задавать больше вопросов, войну всем хотелось забыть, и заботливая медсестра во мне желала защитить Холланда и его прошлое, завернуть его в вату, чтобы у нас все было хорошо. Так что я передала им пиво.
Вот так мы и проводили вечера: за ужином, с пивом и старыми байками, которые ничего не проясняли. Я придумала печь мальчикам торты, а Базз так громко ими восторгался, что это вошло в традицию, и мы все смеялись над ее нелепостью. Мы трое выросли во время Депрессии – без тортов – и пережили войну – без масла, – а теперь вон чего: едим торт каждый вечер. И Сыночек бросал Лайлу мяч и вопил от восторга. То было время безобидного веселья, и мы были еще достаточно молоды, чтобы им наслаждаться.
По субботам, когда Холланд работал сверхурочно, Базз иногда приходил пораньше. Я не возражала. Он присматривал за Сыночком, пока я хлопотала по дому. Мне нравилось, что с ребенком играет кто-то еще, кроме тетушек. Но было и кое-что неуютное. На середине какой-нибудь банальнейшей истории шмелиный голос Базза вдруг умолкал, и я знала, даже если стояла к нему спиной, что он смотрит на меня. Я поклялась себе, что не стану оборачиваться. Это стало почти игрой.
Интересно, что думали соседи. Правда интересно. Я забавлялась, представляя, как они шепчутся, что у Перли Кук роман с этим их гостем.
Одним необычно жарким и ясным субботним днем мы вешали белье на заднем дворе. Он подавал мне сырые, пахнущие отбеливателем вещи, а я старалась удержать их против ветра. Белые простыни хлопали на ветру, как поленья в костре. И тогда Базз спросил, нет ли у меня бессонницы.
– Нет, а вот у Холланда – да.
– Бедняга.
У нас с Холландом было две спальни, соединенные проходным чуланчиком. Лайл спал в моей комнате на овечьей шкуре. Холланд спал один. Сон у него был чуткий – он и в остальном был очень чувствительный, – и давно было решено, что ему нужна своя комната. На этом настаивала я. Заботясь о его сердце.
– Он еще с войны не может уснуть, если хоть какой-то звук. Хуже всего дворовые собаки по ночам. Или если кто-нибудь в комнате. И все равно он почти все ночи не спит.
Базз все выжимал белье и подавал его мне.
– В госпитале он, наверное, спал, – сказала я.
– Нам всем давали