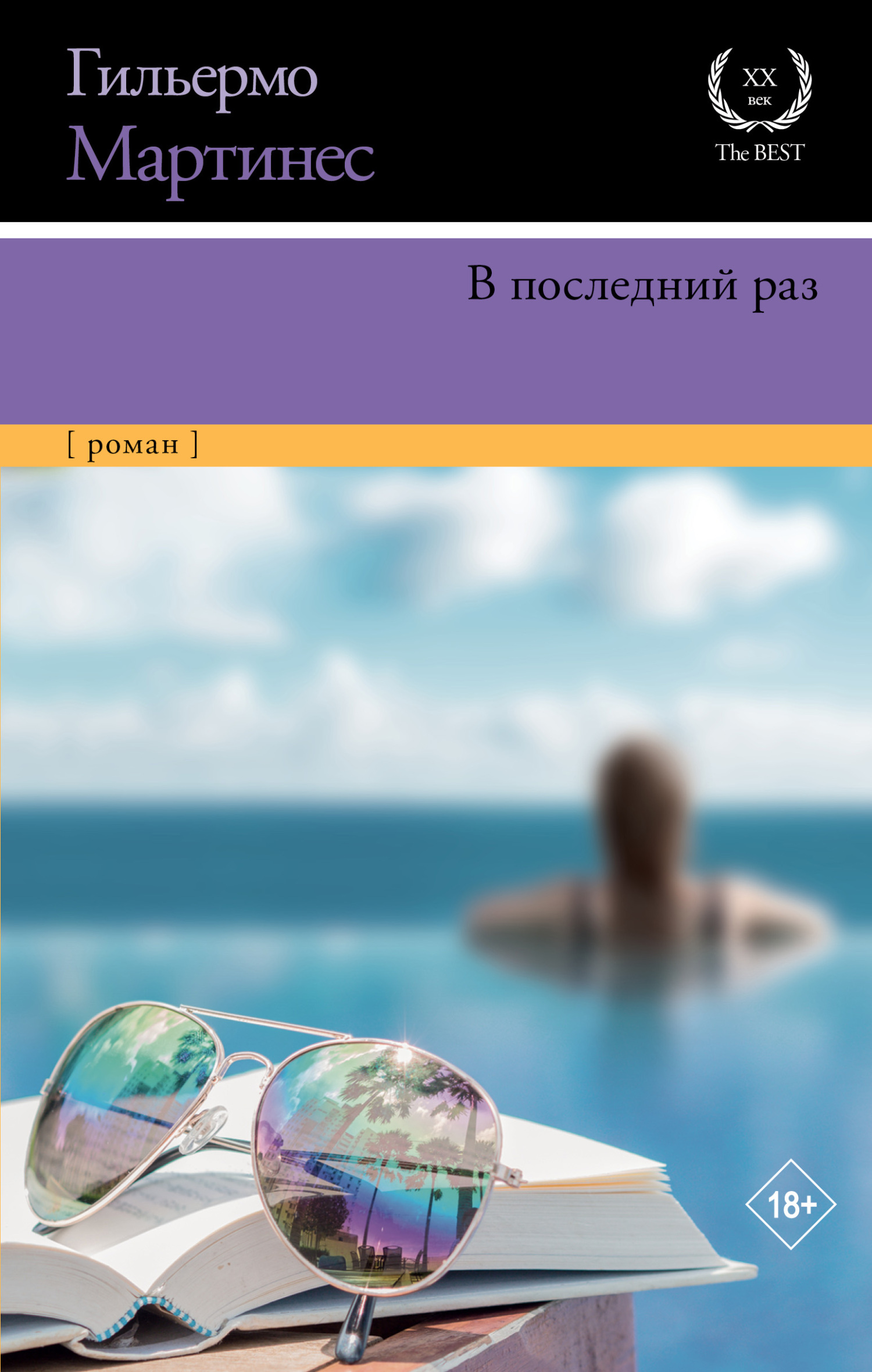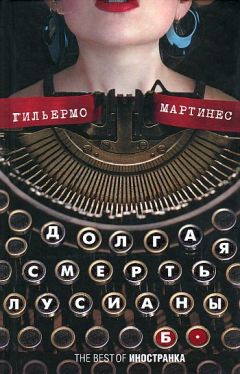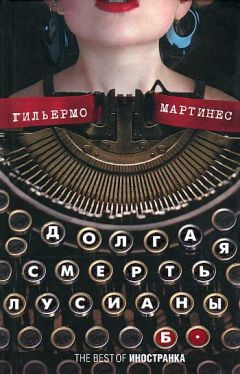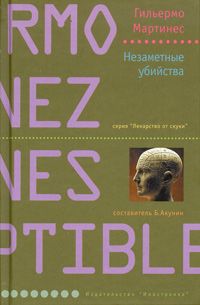перед минным полем неприятных воспоминаний. Она давно решила расстаться с ними, оставить позади, но они все равно порой детонировали. Но тут же вздернула подбородок и продолжила откровенно, чуть ли не с вызовом: – Потом стала встречаться в этих книгах с некоторыми его любовницами, едва закамуфлированными. Сам можешь представить, насколько мне хотелось подобные романы читать. У него, разумеется, всегда имелись отговорки, что это, мол, вымысел, но было не очень приятно натыкаться на эти… детали и не знать наверняка, что было, а чего нет. Одно время он был очень
востребован, если можно так выразиться. Всякие шлюшки вертелись перед ним, прикидываясь, будто изучают филологию или пишут статьи о современной культуре. Вот они-то, похоже, его понимали хорошо. И все же, как видишь, и они, такие умные, ничего не разглядели. Я знаю только, что больше всего он злился на критиков, еще мог примириться с тем, что рядовые читатели или его подружки-интеллектуалки пропускают самую суть. Но слепота профессиональной критики была для него непереносимой. Когда он открывал газеты и читал рецензии на свои книги, это всегда его удручало, какая бы ни расточалась похвала. И на сей раз не разглядели, возмущался он, а ведь я все высказал яснее ясного. Это очень его огорчало в последние годы, немного задевало и меня. Почему он никогда не ценил того, что имел, чего достиг? Почему не умеет просто быть благодарным, удовлетвориться тем, что тысячи и тысячи читателей постоянно шлют ему восхищенные письма, пусть даже все они заблуждаются? Почему ему недостаточно жить в мире со мной и с дочерью в этом нашем прекрасном доме? Думаю, он так долго работал над последним романом потому, что хотел сделать еще одну попытку добиться полной прозрачности. Однако со временем мне стало казаться, что это – не более чем мираж, нечто такое, в чем он сам себя убедил, но чего нигде и никогда не существовало. – Неожиданно Моргана положила руку ему на плечо, и Мертон снова почувствовал, как тогда на банкете, идущую из глубин власть, какую имеет над ним эта рука. – В общем, не слишком переживай, если, прочитав роман, тоже не сможешь ничего сказать: ты будешь принят с великой радостью в мир всех прочих смертных. И я тебя покидаю, мы заболтались, а ты наверняка хочешь спать. Я за тобой пошлю, если он соберется с духом, чтобы принять тебя.
Не в силах оторвать взгляда от ее фигуры, Мертон следил за тем, как Моргана уходит: огибает бассейн, направляется по галерее к боковой двери. Может, она хотела именно это проверить, удостовериться, что он с нее не сводит глаз, поэтому перед тем, как войти в дом, обернулась и издали помахала рукой. Мертон, пристыженный, вяло пошевелил своей, потом вернулся к чемодану и втащил его в комнату. Повесил в шкаф три рубашки, которые взял с собой, и открыл первый ящик комода, чтобы сложить все остальное. На дне разглядел толстый корешок книги, ее, наверное, прятали под бельем, или кто-то ее забыл здесь. Мертон извлек книгу на свет божий. То было издание «Камасутры», очень красивое, в твердом переплете, с изящными арабесками вокруг нагой, сплетенной пары, изображенной на обложке. На иллюстрациях внутри представали в четких линиях и ярких красках все интимные судороги и переплетения, возможные, а порой и невозможные, поскольку под некоторыми позами, словно звездочка, означающая уровень сложности, красовалось почти юмористическое примечание: «Можно постичь только на практике». Интересно, кто оставил книгу в ящике? Сам А., когда еще работал здесь, в кабинете? Кто-нибудь из гостей? Или – хотя это изначально казалось наиболее невероятным и смущающим – сама Моргана? Неужели это – последняя деталь, зашифрованное послание ему? В любом случае, как следует это истолковать? Он, вдруг понял Мертон, настолько устал, что ум начинает питать самые отдаленные надежды, верить в фантастические возможности. Мертон закрыл ставни, как показывала Моргана, снял брюки и рухнул на постель, больше не в силах размышлять.
Мертона разбудило влажное прикосновение к щеке: псина лизала ему лицо и яростно скреблась лапами по краю матраса. Ошарашенный, он открыл глаза и увидел в проеме двери юную девушку, которая смотрела на него, явно забавляясь, хотя и сдерживая смех. Мертон прикрылся простыней и сел, все еще ошеломленный, стараясь унять проявления собачьей нежности, ослепленный светом, хлынувшим из открытой двери, куда он не решился еще раз посмотреть.
– Извини, я стучала много раз, а ты не откликался, – произнесла девчонка, не слишком-то раскаиваясь. Мертон даже задался вопросом, стучала ли она вообще, а главное, долго ли разглядывала его. – Меня послала мама. Папа может поговорить с тобой сейчас, пока ему не вкололи успокоительное.
Мертон кивнул и все-таки поднял голову. Досада исчезла, последние паутинки сна тоже рассеялись. Перед ним стояла девочка не только редкой, отчетливой красоты, волнующей, расцветающей на пороге юности, но и во взгляде ее, открытом и немного ироничном, который она дерзко, будто в коротком поединке, устремила на него, Мертон прочитал, как ему показалось, некий опасный вызов, что заставило его прикинуть, сколько ей лет, и сказать себе, что ко всем таким авансам он должен оставаться глух, чего бы это ни стоило.
– Значицца, это ты теннисистка, – сказал он и потянулся за брюками.
– Значицца, это ты дзубрила, – усмехнулась она, пародируя его аргентинский акцент.
Мертон расхохотался.
– Зубрила, хотя мы не употребляем такого слова. Можешь предупредить маму, что я приду через десять минут? Только приму душ и оденусь.
– Нет проблем, я подожду тебя здесь, в кабинете, – заявила она, и Мертон, обернувшись, увидел, что она держит в руке, как трофей, экземпляр «Камасутры», который он оставил на комоде. – Полистаю пока книгу, какую ты читал, с красивыми картинками.
– Эта книга – не моя, – заявил Мертон. – И я уверен, что родители не позволили бы тебе ее читать. Книгу кто-то спрятал в ящике.
– А вот и позволили бы! Мне всю жизнь твердили, что в доме нет ни одной запретной книги, я могу взять любую.
Мертон воззрился на нее, не совсем понимая, что на самом деле она хочет сказать. Однако отдавал себе отчет, что книгу она, в любом случае, не отдаст.
– Пообещай, по крайней мере, что не расскажешь родителям. Еще подумают, что я тебе это дал. Твоя мама на меня рассердится.
– Ладно-ладно, успокойся! Мама так легко на тебя не рассердится. Она послала меня к тебе с такими наставлениями, будто ты – махараджа Капуртхалы.
Стоя под душем и позднее натягивая на себя одежду, Мертон прокручивал в голове фразу,