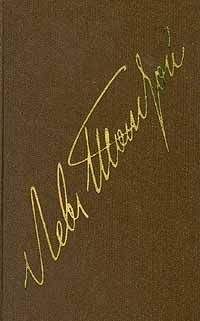— Я, Неустроев.
— Кто я?
— Да с барского двора.
— А, куда же бог несет?
— Да к Петру Федоровичу. Что, он дома?
— А где же ему быть. Спит, я чай.
Неустроев подошел к окну школы и начал стучать. Долго никто не отзывался. Потом вдруг совсем бодрый, энергичный, веселый голос прокричал:
— Кого бог дает? Говори, не то оболью.
И слышно было, как босые ноги подошли по скрипучим доскам к окну.
— А, Миша! Ты чего ж по ночам бродишь? Иди, иди в дверь, отопру.
Соловьев впустил Неустроева, засветил лампочку и, усевшись на промятую лодкой кровать, потирая одну босую ногу о другую, стал расспрашивать Неустроева о том, зачем он пришел и что ему нужно. В комнате, кроме кровати, был стол в красном углу, и в угле иконы, много икон, лампадка, и у стола два стула. Один угол был занят книгами, другой — чемоданом с бельем. Неустроев сел у стола и рассказал Соловьеву, что он простился со всеми и уезжает по тому делу, о котором Соловьев знает. Соловьев слушал, сгибая голову на сторону и кося глазами.
Соловьев был немного постарше Неустроева и совсем другого склада. Он был повыше ростом, немного сутуловат, с длинными руками, которыми он, разговаривая, особенно часто и широко размахивал. Лицо же Соловьева было уж совсем другое, чем лицо Неустроева. Прежде всего останавливали на себе в лице Соловьева большие, почти круглые, лазурно-голубые добрые глаза под нависшим широким лбом. Волос у него было много, и все они курчавились, и на голове и на бороде; нос скорее широкий, и рот большой. Улыбка, очень частая, открывала гнилые зубы.
— Ну, что ж, — сказал Соловьев, когда Неустроев рассказал все, что хотел. — Ну, что ж, пошлем. Только знаешь что… — Начал Соловьев, махая правой рукой, а левой поддерживая сползающее одеяло.
— Знаю, знаю, знаем твои теории, да только очень уж они медлительны.
— Тише едешь…
— И без бога ни до порога? Так ведь это все мы знаем.
— Вот и не знаешь. Не знаешь, потому что бога не знаешь. Не знаешь, что такое бог.
И Соловьев начал излагать свое понимание бога, точно как будто это было не в два ночи, когда его разбудили среди первого сна, и не один на один с человеком, с которым он уже говорил об этом же десятки раз и про которого знал, что он, как он сам выражался, непромокаем для религиозной жидкости. Неустроев слушал и улыбался, а Соловьев говорил и говорил. Он знал, что вызывают Неустроева на какое-нибудь терростистическое дело, и, хотя не отказывался быть посредником между ним и его товарищами, считал своим долгом сделать все, что может, для того, чтобы отговорить его.
Неустроев слушал его, иногда улыбался. И когда Соловьев на минуту остановился, сказал:
— Все это хорошо тебе говорить, когда у тебя ожидаемая награда вот от них, — он указал на иконы, — есть, а нашему брату надо только делать, что можешь, пока живешь, и делать не для себя.
Соловьев в это время вертел папиросу.
— Ты говоришь, — горячо заговорил Соловьев, — награда моя там, — он указал на потолок. — Нет, брат, награда моя вот где, — он кулаком ударил себя в грудь. — Тут она, и делать, что я делаю, я делаю не для других, — черт с ними, с другими, — а для бога и для себя, для того себя, который заодно с богом.
И он закурил папиросу и жадно стал затягиваться.
— Ну, эта метафизика мне не по силам. Так я засну.
— Ложись, ложись.
7
Неустроев, как решил, рано утром послал сторожа за своими вещами и, получив их, нанял телегу и уехал на станцию. Соловьев же спал и не слыхал, как он ушел.
Проснувшись же, он, как и всегда, встал перед иконами и прочел все с детства произносимые молитвы: «отче наш», «верую», помянул родителей (они уже умерли), «богородицу» и последнюю «царю небесный», которую он особенно любил: «Приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, блаже, души наши». Он произнес нынче с особенным чувством, вспоминая свой разговор с Неустроевым.
На душе ему было очень хорошо. Спать уже не хотелось. Было воскресенье, школы не было, и он решил сам снести письма на почту. Почтовая контора была за две версты. Он умылся, посоображал, на сколько времени еще станет ему обмылок, начатый на праздниках. «Если дотянет до пасхи, то все хорошо будет», — думал он, не определяя того, что будет хорошо. Потом надел сапоги большие, потом пиджачок, очень требующий починки, так как правая рука попадала всегда в дыру вместо рукава. «Надо будет вдову Афанасьевну попросить», — подумал он и тотчас же вспомнил о Наталье, дочери Афанасьевны, и за те мысли, которые пришли ему о Наталье, сам на себя укоризненно помотал головой. Чудесный белый снег, прикрывший все, и свежий, холодный воздух еще более радостно возбудил его. На станции он отдал свое одно письмо и получил письмо, очень нерадостное для него. Письмо было от его брата меньшего, несчастного двадцатишестилетнего малого, не кончившего семинарии (Соловьев был сын дьякона), поступившего в лавку к купцу, уличенного там в краже, поступившего потом в писцы к становому и там сделавшего что-то нечестное. Брат описывал свое бедственное положение, что он по два дня не ест, и просил денег. У Петра Федоровича денег было мало; он получал сорок рублей в месяц и много раздавал и тратил на книги, так что теперь у него было всего семь рублей шестьдесят копеек. Он пересчитал их тут же, — а надо было Афанасьевне за харчи отдать. Нечего делать, решил трешницу послать, а с Афанасьевной как-нибудь справлюсь. Но грустно было то, что Вася (так звали брата) пропадает, и помочь нельзя. Не послать деньжонок нельзя, а послать — он повадится. Надо отказать не столько для себя, сколько для него, и отказать нельзя.
Так, с этим неразрешенным вопросом, он пошел домой, рассуждая иногда вслух сам с собою. Уж и белый снег не так радовал его. По пути нагнал его мужичок из Никольского, той деревни, в которой учил Соловьев, на санках, и, поздоровавшись, предложил подвезти. Петр Федорович сел, и они разговорились. Мужичок не без умысла предложил подвезти учителя. Мужик ездил к земскому по судебному делу. Его сестру, вдову, старую женщину, в соседнем селе, земский приговорил на три месяца в тюрьму за то, что она просила господ отсрочить оброк, а они не отсрочили, и старшина приехал к вдове, потребовал оброк. Сестра сказала:
— И рада бы отдать, да нечем; повремените, мол, справлюсь, отдам.
Старшина слушать не стал, давай сейчас.
— Да говорю, что нету.
— Нету, корову веди.
— Корову не поведу, у меня ребята, нам без коровы нельзя.
— А я приказываю — веди.
— Не поведу, говорит, сама. Если, говорит, ваша власть, ведите, а я не поведу.
— Так вот [за] эти самые слова земский призвал, приговорил на высидку, а ей как детей оставить? Так вот ездил просить за сестру. Нельзя, говорит. Состоялся, значит, и крышка. Нельзя ли, Петр Федорович, батюшка, похлопочите как.
Соловьев выслушал, еще ему грустней стало.
— Надо, — говорит, — попытаться на съезд подать. Я напишу.
— Батюшка, отец родной.
Слез в деревне Соловьев с саней, пошел домой к себе. Сторож ему самовар поставил. Только сел чай пить с Федотом и закурил, как пришла баба от соседей. Вся в крови, избил ее муж за то, что холстов ему пропить не дала.
— Усовести ты его, ради Христа, он, может, тебя послушает. Мне и домой не велел приходить.
Пошел Петр Федорович. Баба за ним, а мужик в дверях стоит. Начал Петр Федорович говорить:
— Нехорошо ты, Пармен, делаешь, разве это можно?
Не дал Пармен ему и слова договорить.
— Ты свое дело помни, ребят учи, а я как знаю, так и учу, кого мне надо.
— Побойся ты бога.
— Бога-то я боюсь, тебя не боюсь. Ступай себе своей дорогой, а то поди, как намесь, набузуйся пьян, тогда и учи самого себя, а не людей. Так-то. Буде толковать. Иди домой, что ль, — крикнул мужик на жену. И оба вошли в избу и захлопнули дверь.
Петр Федорович постоял, покачал головой и пошел не домой, а к Арине, торговавшей вином, взял полбутылки и начал пить и курить и, когда напился и накурился, уж совсем пьяный, пошел к Афанасьевне.
Афанасьевна покачала головой, увидав его.
— Что ж ты сомневаешься, что я пьян? Не сомневайся — пьян; а пьян потому, что слаб, а слаб потому, что нет во мне бога. Нету. А Наталья где?
— Наташа на улицу пошла.
— Ах, Афанасьевна, хороша твоя девушка, я люблю ее, только бы поняла она жизнь настоящую, я бы посватал. Отдашь?
— Ну, будет болтать пустое. Ложись лучше, поспишь до обеда.
— Можно, — и Петр Федорович залез на полати и довольно долго что-то внушал Афанасьевне о праведной жизни, но когда Афанасьевна вышла из избы, он заснул и проспал до обеда.
8
Петр Федорович Соловьев был сын дьякона Костромской губернии большого села Ильинского. Отец отдал его в духовное училище. Из училища он первым учеником поступил в семинарию. И в семинарии все время шел и кончил одним из лучших учеников. Как всем кончающим курс в семинарии, предстоит выбор: монашество, с возможностью высших церковных должностей, или священство, связанное с обязательной женитьбой. Соловьев, выйдя из семинарии, выбрал первое. В выборе этом руководило им никак не честолюбие, а, напротив, желание жить для души, для бога. Но еще до пострижения мысли его вдруг изменились: изменились преимущественно потому, что не только товарищи его, но и начальство прямо высказывали ему уверенность в том, что он достигнет высших иерархических степеней. Более всего в этом отношении подействовало на него увещание архиерея, узнавшего о том богословском споре, который вел Соловьев с преподавателем о значении вселенской церкви, споре, в котором владыка признавал правым Соловьева. Архиерей, призвав к себе Соловьева, сказал ему следующее: