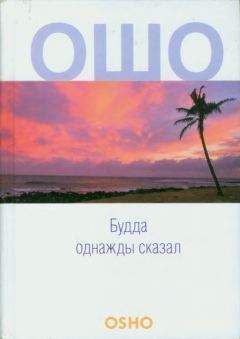Пушкин, как известно, был в очень близких и дружеских отношениях с Баратынским, — значит, ценил его не только как поэта, но как и человека. Он часто вспоминал Баратынского в своих поэтических произведениях. Так, например, живя в Бессарабии и говоря, что он бродит там с тенью Овидия, он так заключает свое стихотворение:
Но, друг, обнять милее мне
В тебе Овидия живого.
В другом стихотворении он пишет:
Стих каждый повести твоей
Звучит и блещет, как червонец,
Описывая в пятой главе «Евгения Онегина» зиму, Пушкин свое описание ставит ниже описания Баратынского:
Согретый вдохновенья богом,
Другой порт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег…
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец финляндки молодой.
Кроме Пушкина, с большим уважением относились к Баратынскому и многие другие видные представители современной литературы и критики, как, например, кн. Вяземский, Галахов, Плетнев и т. д. Последний сулил ему даже славу Анакреона и Петрарки. Я не буду, однако, останавливаться на этих отзывах, а приведу еще только мнение Белинского о Баратынском.
Белинский в начале литературно-критической деятельности отнесся к поэзии Баратынского строго. В 1835 году в статье «О стихотворениях г. Баратынского», помещенной в «Телескопе», Белинский хотя и признавал в поэзии Баратынского ум, литературную ловкость, умение, навык, щегольскую отделку, но замечательными стихотворениями считал только немногие и полагал, что и они оставляют в душе читателя очень слабое впечатление. Спустя десять лет после этого Белинский писал о Баратынском уже совершенно иначе, хотя в некоторых отношениях сохранил на него свой прежний взгляд. Вот что мы читаем в статье Белинского «Русская литература 1844 г.», помещенной в «Отечественных записках»: «Баратынский мыслил стихами… Дума (курсив автора) всегда преобладала в них над непосредственным творчеством… Эта мысль или, лучше сказать, дума, всегда так тепла, так задушевна в стихах Баратынского; она обращается к голове читателя, но доходит до нее через его сердце». Дума Баратынского, по словам Белинского, полна страдания, в ней постоянно слышится вопрос, ответом является лишь одна скорбь поэта. «Читая стихи Баратынского, забываешь о поэте, и тем более видишь перед собой человека, с которым можешь не соглашаться, но которому не можешь отказать в своей симпатии, потому что этот человек, сильно чувствуя, много думал, следовательно, жил, как не всем дано жить, но только избранным… Мыслящий человек всегда перечтет с удовольствием стихотворения Баратынского, потому что всегда найдет в них человека — предмет вечно интересный для человека».
Так характеризовал Баратынского наш знаменитый критик и, говоря о его ранней кончине, замечал: «Оплакивая его преждевременную смерть, мы скорбим не только о потере поэта, но и человека: в Баратынском оба эти имени слились нераздельно».
* * *
«Wer den Dicher will verstehen
Muss in Dichters Lande gehen»[31], —
сказал Гете и в этих двух строках выразил мысль, которая впоследствии была развита в целую теорию, по которой понимание произведений искусства вообще и поэзии в частности оказывается возможным только тогда, когда изучены условия среды, породившие творческую деятельность того или иного художника. Теория эта, как известно, нашла между прочим своего блестящего истолкователя в Ипполите Тэне, хотя он придал, может быть, излишне большое значение географическим условиям страны и расовым особенностям представителей искусства. Понятие среды в этом случае должно быть, по-моему, взято в самом широком смысле слова, и только тогда мы не впадем в односторонность, объясняя характер художественного творчества. Здесь должны иметь место и влияния природы на художника, и принадлежность его к тому или иному обществу, и условия политической и социальной атмосферы данного времени, и, наконец, тот цикл идей, чувств и настроений, которые господствуют в изучаемую эпоху.
Однако одного изучения среды, понимаемой даже в таком широком смысле слова, недостаточно; необходимо еще изучить индивидуальные особенности художника, черты его характера, темперамента и умственных наклонностей, ибо самые условия среды в одном индивидууме преломляются так, в другом — иначе.
Что же мы видим при изучении характера Баратынского и среды, окружавшей его?
Баратынский родился и провел свое детство в Тамбовской губ., то есть в такой местности, которая, подобно всей остальной полосе средней России, не может своими природными условиями производить какого-либо сильного впечатления: все тихо, мирно, скромно; здесь чаще всего могут под влиянием природы возникать или элегические, или идиллические настроения. Элегический оттенок, несомненно, присущ очень многим русским поэтам, а в Баратынском он сказался особенно сильно. Но ему не чуждо и мирное идиллическое настроение. Вот, например, описание одного помещичьего имения в средней России, сделанное нашим поэтом:
Я помню ясный, чистый пруд,
Под сению берез ветвистых,
Средь мирных вод его три острова цветут.
Светлея нивами меж рощ своих волнистых,
За ним встает гора, пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница. Деревня, луг широкий,
А там счастливый дом… туда душа летит.
Не правда ли, как патриархально-мирна эта картина, какой идиллией веет от нее? Но в этой простой и незатейливой природе есть время года, которое вливает жизнерадостность в душу человека и смягчает его элегически-грустное настроение. Это время — весна, которая бывает особенно хороша в средней России, и у Баратынского мы находим превосходные описания ее.
Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи, блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед.
…Что с нею, что с моей душой?
С ручьем — она ручей
И с птичкой — птичка!
С ним журчит,
Летает в небе с ней!
Однако Баратынскому пришлось испытать на себе влияние и другой, более могучей и дикой природы: в течение шести лет ему пришлось прожить, состоя на военной службе, в Финляндии (Нейшлотский полк, в котором он служил, стоял в Кюмени). Природа эта прямо поразила его, приковала к себе его внимание и, несомненно, наложила глубокую печать на его душу. К этому надо прибавить, что в Финляндии Баратынский жил очень уединенно, и поэтому вполне понятно, что мрачное величие северной природы внесло в его душу много меланхолии и наполнило ее романтическим настроением, в особенности если принять во внимание, что скандинавские саги и сказания еще более упрочивали это настроение. Вот дивные строки из поэмы Баратынского «Эда», где он описывает Финляндию:
Суровый край! Его красам,
Пугался, дивятся взоры;[32]
На горы каменные там
Поверглись каменные горы;
Синея, всходят до небес
Их своенравные громады;
На них шумит сосновым лес;
С них бурно льются водопады;
Там дол очей не веселит;
Гранитной лавой он облит;
Главу одевши в мох печальный,
Огромным сторожем стоит
На нем гранит пирамидальный;
По дряхлым скалам бродит взгляд;
Пришлец исполнен смутной думы…
Суровая финляндская природа, если и придала романтический характер поэзии Баратынского, описана им с такою реалистическою правдою (черта, вообще, свойственная русским поэтам), что его описания поистине являются и считаются классическими. Таковы, например, его знаменитые стихотворения: «Финляндия» («В свои расселины вы приняли певца…»), «Водопад» («Шуми, шуми с крутой вершины…») и мн. др.
Под конец жизни Баратынскому удалось побывать и за границей и между прочим испытать на себе влияние природы Италии, куда его тянуло еще с детства, так как любовь к этой стране рано возбудил в нем его гувернер, итальянец Боргезе, руководивший воспитанием поэта. И в более зрелом возрасте Баратынский мечтал об Италии:
Небо Италии, небо Торквато,
Прах поэтический древнего Рима,
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зрима?..
Италия пленила Баратынского. В одном из писем к Путяте из Неаполя он пишет: «На корабле ночью я написал несколько стихотворений», а про Италию вообще говорит так: «Понимаю художников, которым нужна Италия… Здесь, только здесь может образоваться и рисовальщик, и живописец».