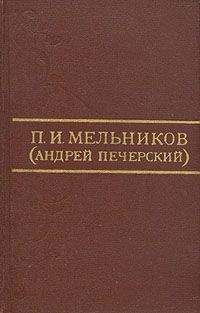Вслушиваясь в речи матери, Настя сознавала справедливость ее попреков… Но как удержаться от веселья, потоком нахлынувшего при мысли, что завтра покинет она родительский дом, где довелось ей изведать столько горя? Одна мысль, что, свидевшись с Фленушкой, она выплачет на ее груди свое горе неизбывное, оживляла бедную девушку… Ведь ей дома ни с кем нельзя говорить про это горе… Не с кем размыкать его… Мимо ушей пропускала она ворчанье матери… Но когда Аксинья Захаровна повела речь о смерти, наболевшее сердце Насти захолонуло — и стало ей жаль доброй, болезной матери. Мысль о сиротстве, об одиночестве, о том, что по смерти матери останется она всеми покинутою, что и любимый ею еще так недавно Алексей тоже покинет ее, эта мысль до глубины взволновала душу Насти… С рыданьями кинулась она на шею Аксинье Захаровне.
— Мамынька!.. Родимая!.. Не говори таких речей, не круши сердца, не томи меня!..
Слезы дочери свеяли досаду с сердца доброй Аксиньи Захаровны. Сама заплакала и принялась утешать рыдавшую в ее объятиях Настю.
— Ну, полно, полно же… Перестань, девонька… Не слези своих глазынек… Ведь это я так только с досады молвила. Бог милостив, не помру, не пристроивши вас за добрых людей… Молитесь богу, девоньки, молитесь хорошенько. Он, свет, не оставит вас.
— Мамынька! Прости ты меня, глупую, что огорчила тебя, — заговорила Настя, сдерживая судорожные рыданья. — Ах, мамынька!.. Тяжело мне на свете жить!.. Как бы знала ты да ведала!..
— Что ты, что ты, Настенька?.. Что за горе?.. Какое у тебя горе?.. Что за печаль?.. Отколь взялась?.. — тревожно спрашивала Аксинья Захаровна.
— Горе мое, мамынька, великое, беда моя неизбывная!.. Не выплакать того горя до смерти!.. А я-то все одна да одна, не с кем разделить моего горя-беды… Ну и полегчало маленько на сердце… Фленушку увижу, хоть с ней чуточку развею печали мои.
— Разве Фленушка ближе матери? — с тихим, но горьким упреком молвила Аксинья Захаровна.
— Она все знает…— едва слышно простонала Настя, припав к плечу матери.
— Да что это?.. Мать пресвятая богородица!.. Угодники преподобные!.. — засуетилась Аксинья Захаровна, чуя недоброе в смутных речах дочери…Параша, Евпраксеюшка, — ступайте в боковушу, укладывайте тот чемодан… Да ступайте же, Христа ради!.. Увальни!.. Что ты, Настенька?.. Что это?.. Ах ты, господи, батюшка!.. Про что знает Фленушка?.. Скажи матери то, девонька!.. Материна любовь все покроет… Ох, да скажи же, Настенька… Говори, голубка, говори, не мучь ты меня!.. — со слезами молвила Аксинья Захаровна.
Настя молчала. Припав к материнской груди, она кропила ее слезами и дрожала всем телом.
— Да скажи ж, говорят тебе… Легче будет, — продолжала уговаривать Аксинья Захаровна, целуя Настю в голову.
— Не целуй меня, мамынька! — едва слышно промолвила Настя.
— Да вымолви словечко, Христа ради, — жалобно причитала Аксинья Захаровна… Догадывалась мать, в чем дело, но верить боялась.
— Полюбился, что ль, кто? — скрепя сердце, шепнула, наконец, она дочери на ухо. — Зазнобушка завелась?.. А?
Ни слова Настя… Но крепко, крепко сжала мать в своих объятиях.
Поняла Аксинья Захаровна безмолвный ответ. Руки у ней опустились…
Настя к окну отошла… Села на скамью и, облокотясь, закрыла лицо ладонями.
— В скиту, что ли? — спросила Аксинья Захаровна разбитым голосом. Настя покачала головой.
— Где же? — с удивлением спросила мать.
— Дома, — едва могла прошептать Настя.
— Кто ж такой? Неужель Снежков? Настя опять покачала головой.
— Ума не приложу, — молвила Аксинья Захаровна. Старушка совсем растерялась в мыслях… Вспомнился разговор с мужем перед светлой заутреней и спросила:
— Уж не приказчик ли?
Стремительно вскочила Настя и кинулась в землю перед матерью… Дрожащими, холодными руками судорожно обвила ее ноги.
— Виновата я!.. — задыхаясь от волненья, вскрикнула она.
— Судьбы господни! — набожно сказала Аксинья Захаровна, взглянув на иконы и перекрестясь. — Ты, господи, все строишь ими же веси путями!.. Пойдем к отцу, — прибавила она, обращаясь к дочери. — Он рад будет…
— Ни за что!.. Ни за что!.. — вскрикнула Настя, быстро встав на ноги. — Петлю на шею, в колодезь!.. Нет, нет!..
— Опомнись, что говоришь? — уговаривала ее Аксинья Захаровна. — Отец рад будет… Знаешь, как возлюбил он Алексея…
— Убьет он его!.. Не сказывай тятеньке, не говори… Я не все сказала.
— Не все? — с ужасом вскрикнула Аксинья Захаровна.
— Родная!.. — чуть слышно шептала Настя у ног матери. — Не на то ты растила меня, не на то меня холила!.. Потеряла я себя!.. Нет чести девичьей!.. Понесла я, мамынька…
Страшное слово, как небесная гроза, сразило бедную мать.
— Настенька!.. — только и могла в ужасе и сердечном трепете произнести несчастная старушка.
Настя не слыхала вопля матери. Как клонится на землю подкошенный беспощадной косой пышный цветок, так бледная, ровно полотно, недвижная, безвласная склонилась Настя к ногам обезумевшей матери…
На пасхе усопших не поминают. Таков народный обычай, так и церковный устав положил… В великой праздник воскресенья нет речи о смерти, нет помина о тлении. «Смерти празднуем умерщвление!..» — поют и в церквах и в раскольничьих моленных, а на обительских трапезах и по домам благочестивых людей читаются восторженные слова Златоуста и гремят победные крики апостола Павла: «Где ти, смерте жало? Где ти, аде победа?..» Нет смерти, нет и мертвых — все живы в воскресшем Христе.
Но в русском народе, особенно по захолустьям, рядом с христианскими верованьями и строгими обрядами церкви твердо держатся обряды стародавние, заботно берегутся обломки верований в веселых старорусских богов…
Верит народ, что Велик Гром Гремучий каждую весну поднимается от долгого сна и, сев на коней своих — сизые тучи, — хлещет золотой вожжой — палючей молоньей — Мать Сыру Землю… Мать-земля от того просыпается, молодеет, красит лицо цветами и злаками, пышет силой, здоровьем — жизнь по жилам ее разливается… Все оживает: и поля, и луга, и темные рощи, и дремучие леса… Животворящая небесная стрела будит и мертвых в могиле… Встают они из гробов и, незримые земным очам, носятся середь остающихся в живых милых людей… Слышат гробные жильцы все, видят все — что люди на земле делают, слова только молвить не могут…
Как не встретить, как не угостить дорогих гостей?.. Как не помянуть сродников, вышедших из сырых, темных жальников на свет поднебесный?.. Услышат «окличку» родных, придут на зов, разделят с ними поминальную тризну…
Встают мертвецы в радости; выйдя из жальников, любуются светлым небом, красным солнышком, серебряным месяцем, частыми мелкими звездочками… Радуется и живое племя, расставляя снеди по могилам для совершения тризны… Оттого и день тот зовется Радуницей[129].
Стукнет Гром Гремучий по небу горючим молотом, хлестнет золотой вожжой — и пойдет по земле веселый Яр[130] гулять… Ходит Яр-Хмель по ночам, и те ночи «хмелевыми» зовутся. Молодежь в те ночи песни играет, хороводы водит, в горелки бегает от вечерней зари до утренней…
Ходит тогда Ярило ночною порой в белом объяринном[131] балахоне, на головушке у него венок из алого мака, в руках спелые колосья всякой яри[132]. Где ступит Яр-Хмель — там несеяный яровой хлеб вырастает, глянет Ярило на чистое поле — лазоревы цветочки на нем запестреют, пестреют, глянет на темный лес — птички защебечут и песнями громко зальются, на воду глянет — белые рыбки весело в ней заиграют. Только ступит Ярило на землю — соловьи прилетят, помрет Ярило в Иванов день — соловьи смолкнут.
Ходит Ярилушка по темным лесам, бродит Хмелинушка по селам-деревням. Сам собою Яр-Хмель похваляется: «Нет меня, Ярилушки, краше, нет меня, Хмеля, веселее — без меня, веселого, песен не играют, без меня, молодого, свадеб не бывает…»
На кого Ярило воззрится, у того сердце на любовь запросится… По людям ходит Ярило неторопко, без спеха, ходит он, веселый, по сеням, по клетям, по высоким теремам, по светлицам, где красные девицы спят. Тронет во сне молодца золотистым колосом — кровь у молодца разгорается. Тронет Яр-Хмель алым цветком сонную девицу, заноет у ней ретивое, не спится молодой, не лежится, про милого, желанного гребтится… А Ярило стоит над ней да улыбается, сам красну девицу утешает: «Не горюй, красавица, не печалься, не мути своего ретива сердечка — выходи вечерней зарей на мое на Ярилино поле: хороводы водить, плетень заплетать, с дружком миловаться, под ельничком, березничком сладко целоваться».
Жалует Ярило «хмелевые» ночи, любит высокую рожь да темные перелески. Что там в вечерней тиши говорится, что там теплою ночью творится — знают про то Гром Гремучий, сидя на сизой туче, да Ярило, гуляя по сырой земле.