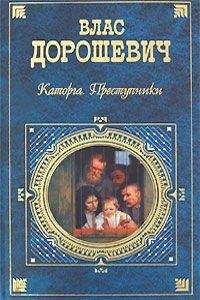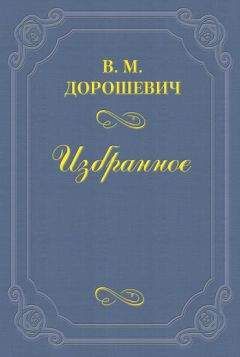В мертвецкой, посредине на столе, лежала груда мяса. Руки, ступни, мякоть, из которой торчали раздробленные кости. И пахло от этой груды свежей говядиной.
Этот говяжий запах, наполнявший мертвецкую, словно мясную лавку, был страшнее всего.
Между кусками выглядывало замазанное кровью лицо с раскрытым ртом.
– Другая голова вот здесь! – пояснил надзиратель, брезгливо указывая на какую-то мочалку, густо вымазанную в крови.
Голова лежала лицом вниз, это был затылок. В дверь с ужасом и любопытством смотрели на груду мяса ребятишки.
– Ах, подлецы! Ах, подлецы! – качал головой смотритель поселений. – Пишите протокол! Идем на допрос.
В то время следователей на Сахалине не было, и следствие пребезграмотно вели господа служащие.
Перед канцелярией смотрителя поселений стояла толпа любопытных. В канцелярии стояли два поселенца средних лет, со связанными назад руками, с тупыми, равнодушными лицами. Оба были с ног до головы вымазаны в крови.
– Ваше высокоблагородие, явите начальническую милость, отпустите домой! – взмолились они.
Смотритель поселений только дико посмотрел на них.
– Как домой?..
– Знамо, домой! Ведь что же это такое? Руки скрутили, сюда привели, дом росперт. Ведь тоже, чай, домообзаводство есть. Немного хоть, а есть. Старались – теперь разворуют. Дозвольте домой.
– Да вы ополоумели, что ли, черти?
– Ничего не ополоумели, дело говорим! Чего там!
– Молчать! Развязать им руки, вывести на двор, пусть хари-то хоть вымоют. Глядеть страшно. Вымазались, дьяволы!
– Вымажешься!
Через несколько минут их ввели обратно умытых: хоть на лицах и руках-то не было крови.
– Пиши протокол допроса! – распорядился писарю смотритель поселений.
– Чего там допрос? Какой допрос? Пиши просто: убили. Все одно не отвертишься, вертеться нечего. Там дом разворуют, а они допрос!
– С грабежом убийство?
– С грабежом! – презрительно фыркнул один из поселенцев. – Тоже грабеж! Сорок копеек взяли.
– Сколько при них найдено денег?
– Сорок четыре копейки! – отвечал надзиратель.
– Из-за сорока копеек загубили две души? – всплеснул руками смотритель поселений.
– А кто ж их знал, души-то эти самые, сколько при них денег? Пришли двое незнакомых людей, неведомо отколь. «Пусти переночевать», – просятся. По семитке заплатили. «А на постоялый нам, – говорят, – не расчет». Думали, фартовый какой народ, и пришили. А стали шарить, только сорок копеек и нашарили. Вот и весь грабеж. Отпусти, слышь, домой. Яви начальническую милость. Что ж, из-за сорока копеек дому, что ль, погибать? Все немного, а глядишь, на десяток рублей наберется! Растащат ведь!
– Отвести их пока в одиночку!
– Из-за сорока-то копеек в одиночку. Тьфу ты! Господи! Поселенцы, видимо, «озоровали».
– Хучь четыре копейки-то отдайте! За ночлег ведь плачено!
– На казенный паек попали! – посмеивались в толпе другие поселенцы.
– А то что ж! С голоду, что ль, на воле пухнуть? – отвечал один из убийц.
Другой шел следом за ним и ругался:
– Ну, порядки!
– Ну-с, идем на место совершения преступления.
У избы, где было совершено убийство, стояли сторожа из поселенцев. Но вытащено было действительно все. В избе ни ложки, ни плошки. Все вычищено.
– Ох, достанется вам! – погрозился на сторожей смотритель поселений.
– Дозвольте объяснить, за что, ваше высокоблагородие? Помилте, нешто может что у поселенца существовать? Гол, да и только. Опять же, как спервоначалу народ сбежался, сторожей еще приставлено не было; известно, чужое добро, всяк норовит что стащить!
Избенка была маленькая, конечно, без всяких служб, покривившаяся, покосившаяся, наскоро сколоченная, как наскоро, «для проформы», сколачиваются на Сахалине обязательные «домообзаводства».
Воняло, пол был липкий, сырой, на скамьях были зеленые пятна. Всюду не высохшая еще кровь.
В углу маленькая печурка, около которой еще стояла лужа крови. Устье – крохотное.
– Ведь это им до вечера пришлось бы жечь! – сказал начальник поселений, заглядывая в печку.
– Так точно, ваше высокоблагородие, одну руку только обжечь успели. Так обуглилась еще только! – подтвердил надзиратель. – Беспременно бы весь день жгли.
– Не оголтелость, я вас спрашиваю? Не оголтелость? – в ужасе взывал смотритель поселений. – Пиши протокол осмотра!
– Позвольте-с! Позвольте-с! Господин, позвольте-с, – догнал меня в Дербинском пьяный человек, оборванный, грязный до невероятия, с синяком под глазом, разбитой и опухшей губой. Шагов на пять от него разило перегаром. Он заградил мне дорогу.
– Господин писатель, позвольте-с. Потому как вы теперь материалов ищете и биографии ссыльнокаторжных пишете, так ведь мою биографию, плакать надо, ежели слушать. Вы нравственные обязательства, дозвольте вас спросить, признаете? Очень приятно! Но раз вы признаете нравственные обязательства, вы обязаны меня удостоить беседой и все прочее. Ведь это-с человеческий документ, так сказать, перед вами. Землемер. Мы ведь тоже что-нибудь понимаем. Парлэ ву франсэ? Вуй? И я. Я еще, может быть, когда вы клопом были, в народ ходил-с. И вдруг ссыльнокаторжный! Позвольте, каким манером? И всякий меня выпороть может. Справедливо-с?
– Да вы за что же сюда-то попали?
– Вот в этом-то и дело. Это вы и должны прочувствовать. «Не убий», – говорят. А что я должен делать, если я свою жену, любимую, любимую, – он заколотил себя кулаком в грудь, и из глаз его полились пьяные слезы, – любимую, понимаете ли, жену с любовником на месте самого преступления застал. По французскому закону, «туэ-ля!» – и кончено дело. Позвольте-с, это на театре представляют, великий серцевед Шекспир и Отелло, венецианский мавр, и вся публика рукоплещет, а меня в каторгу. В каторгу? Где же справедливость, я вас спрашиваю? И вдруг меня сейчас на «кобылу»: зачем фальшивые ассигнации делаешь?
– Позвольте, да вас за что же сюда сослали: за убийство жены или за фальшивые ассигнации?
– В этом-то все и дело. Жена сначала, а ассигнации потом. Ассигнации, это уж с отчаяния. Позвольте-с! Как же мне ассигнации не делать? А позвольте вас спросить, с чего я водку буду пить, без ассигнаций ежели? Должен я водку пить при такой биографии или нет? Я должен водку беспременно пить, потому что у меня рука срывается. Вы понимаете, срывается! Сейчас я хочу веревку за гвоздь, и рука срывается.
– Да зачем же вам веревку за гвоздь?
– Удавиться. Я должен удавиться, и у меня рука срывается. Я говорю себе: «Подлец!» – и должен сейчас водку пить.
Потому я в белой горячке должен быть. Вы понимаете белую горячку? Delirium tremens! Как интеллигентный человек! Потому сейчас самоанализ и все прочее. У меня самоанализ, а меня на «кобылу». Может мне смотритель сказать, что такое Бокль, и что такое цивилизация, и что такое Англия? Я «Историю цивилизации Англии» читал, а меня на «кобылу». Я Достоевским хотел быть! Достоевским! Я в каторге свою миссию видел. Да-с! Я записки хотел писать. И все разорвано. А почему разорвано? От смирения духом. Я сейчас себя посланником от ее величества госпожи цивилизации счел, и в пароходном трюме безграмотному народу бесплатно прошения стал писать. И вдруг меня убить хотят! Потому что какой-то бродяга Иван, обратник, им сейчас прошения к министру финансов и к петербургскому митрополиту о пересмотре дела пишет, а по рублю за прошение берет, а я отказываюсь, потому что глупо. Глупо и невежественно. «Ах, говорят, ты так-то. Ты народ губить? Куда следует прошения писать не хочешь? Иван к митрополиту, а ты не желаешь?» И Иван сейчас науськивает, потому что практику отбиваю. «Бей его! Бей насмерть! Он нарочно куда следует прошений не пишет. С начальством заодно. Он себе в бумаги вписывает, и как водку пьем, и как в карты играем, чтобы потом начальству все открыть». И вдруг мне ночью накрывают темную, и хотят убить, и записки мои рвут, и потом начальству говорят всем трюмом: «Он ворует». А пароходный капитан: «Я тебя выпорю!» – говорит. Позвольте-с! Вы можете знать, о чем я думаю? Я сейчас здесь, в трюме, сижу, мне темную делают, а мой оскорбитель на суде в перстнях является, и невеста в публике. И его сейчас дамы лорнируют. И он благородного рыцаря играет. «Ничего, – говорит, – подобного!» Разве можно в своих связях с порядочной женщиной признаваться? Бла-ародно! И вся публика говорит: «Бла-ародно!» Позвольте-с. И он сейчас свой очаг имеет, и жену, и неприкосновенным очаг считает. Свой-то, свой. А мой осквернил? И ничего? Его не в каторгу, а меня в каторгу? Справедливо-с? Году покойнице не вышло, и у него невеста. Год бы, подлец, подождал! Плачу-с! Плачу – и не стыжусь! И опять ложный донос напишу и стыдиться не буду. И опять! Что, господин смотритель поселений вам жаловался, что я ложный донос на него написал? Верно! И опять напишу, потому что двадцать копеек. Желаете, вам ложный донос напишу? На кого желаете? Двадцать копеек – и донос! И дерите! Дерите! Желаете драть – дерите! Он начал расстегиваться.