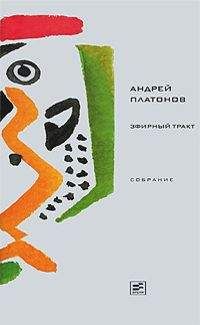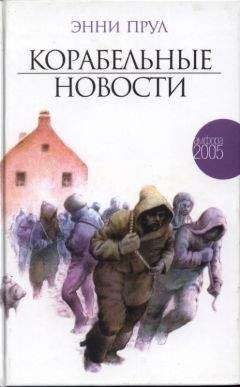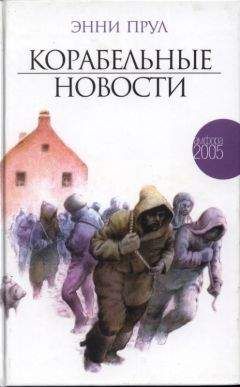— Ты стервец, Димитрий, и глупый человек — ты совсем не электрик!
— Пусть… Ты только не обижайся. Ну, до свидания!
— Отныне и навеки! — произнес Душин и не подал Щеглову руки.
Щеглов молча сошел с тендера и пошел ночевать в свой угол — к чужим людям.
Душин всю дорогу до тюрьмы говорил вслух ругательства и смеялся над сволочью — бывшим товарищем, добивая в себе остывающее влечение к нему.
Поднимаясь по лестнице в башню, Душин услышал музыку, играла гармония. Он открыл дверь и увидел золотую древнюю саблю, лежавшую на подоконнике, и бриллианты блестели на ее эфесе. А посреди комнаты вертелась Лида на веселых ногах, одетая в черный сверкающий шелк, подпоясанная синим кушаком и обутая в золоченые туфли; волосы ее уже были завиты в волны морские, а от всего тела исходил любовный запах духов. На кровати сидел Жаренов и играл вальс на громадной хроматической гармонии.
Душин нечаянно заинтересовался своею женою, как будто пред ним было теперь неизвестное существо, и решил любить ее беспрерывно всю жизнь. Лида действительно стала в новом наряде незнакомой женщиной, ее глаза блестели без сознания в черноте шелка и волос, и тело скрывало мучительное напряжение силы, опухающей от своего безысходного внутреннего скопления. Раньше, под одеждой из деревенских ветошек, Лида тоже была хороша, сейчас же она стала загадочной, но науки об этой загадке не было. Увидя Душина, Лида бросилась к нему со своим чувством, но Душин отстранил ее на время и стал исследовать золотую саблю; на рукоятке ее имелась черная кайма и в эту кайму были вделаны бриллианты по пятиугольнику — три бриллианта светились на месте, а от двух остались одни серебряные гнезда. Душин спросил, куда пропали два бриллианта.
— А вот платье на мне, а вон гармония, и бутылка вина под кроватью! — ответила Лида со счастьем. — Сеня! Мы их к спекулянту отнесли, мы променяли…
Душин вздрогнул и переменился от ужаса расточительности, его сердце сразу заболело, и любовь в нем к жене остановилась.
— Где этот спекулянт?! — спросил он в отчаянии пропадающей жизни. — Ведите меня сейчас же к нему, его надо арестовать!
— Сеня, он уехал уже, — сказала Лида. — Он был на вокзале, говорил, что ему надо в Москву. Теперь его нет…
Душин занемог от боли в уме, что дело электричества разрушается руками его жены и его друзей; он взял саблю, прижал ее для сохранности к себе и велел Лиде уйти из дома, куда она хочет: на земле слишком худо и бедно, чтоб заниматься шелком и любовью, — он вспомнил старуху, которую нес на руках с крестного хода в Верчовке, и страшный мир войны и капитализма. Лучше он будет жить один, согнув голову в терпении и сосредоточившись цельным сердцем на неизвестном еще, нерожденном мире социализма.
— Прочь отсюда! — приказал Душин. — И ты тоже уходи, — обратился он к Жаренову, — мне таких шикарных служащих не нужно.
— А куда? — спросила Лида, не все понимая.
— А куда хочешь… Мне не надо ни жен, ни людей!
— Насовсем уходить?
— Насовсем и навсегда!
Лида прислонилась лбом к оконному стеклу и поглядела в ночь, освещенную нищим светом луны.
— Сеня! — сказала она. — Мы думали — эти каменья дешевые… Они же маленькие — это бусы!
Душин поглядел на жену; она стояла к нему задом, смотря в темноту. «Постой, сволочь, ты задаром не уйдешь!» — решил он и выгнал Жаренова сначала одного, оставив его гармонию на месте.
— Лида! — произнес он тихо и обнял ее за плечи.
— Что, Семен? — ответила Лида и обернулась к нему; она плакала.
— Потуши свет!
Лида помолчала и улыбнулась.
— А корочку хлеба приготовить?
— Приготовь.
«Все равно! — думал Душин. — Ведь может быть в последний раз я буду тратить себя на женщину! Я сэкономлю потом!» — и разделся. Лида без обиды обняла его.
Спустя время, Душин почувствовал пустоту в голове и полное бессмыслие жизни в сердце, будто все выгорело внутри его на коротком замыкании тока. Он сел в постели и не мог сознать своего ума: вместо энергичной заботы о всемирном устройстве слабый туман равнодушия стоял в его мысли… Гудел паровоз, уходя из Ольшанска в могучие пространства темноты, и слышно было, как парили его сланцы от плохой притирки; в Верчовке и других невидимых селениях спали старушки и дети, обглоданные нуждою, и погибали от голода, а Душин погибал от наслаждения, оставляя всех без помощи, истратив бриллианты, нажитые некогда батрацкими безмолвными поколениями, на шелковую сексуальную юбку жене, дабы она еще более стала прекрасной над кротким уродством масс…
— Сеня! — сказала теплая и усталая Лида. — У спекулянта еще брюки были, жилетка и пиджачок — враз по тебе сшиты!.. Он часики золотые показывал и жамок обещал мешок. Камушков только не хватило: мы две штуки взяли… Сеня, ну дай, пожалуйста, еще один камушек — я больше просить никогда не буду!
— А спекулянт где? Ты говорила — он уехал!
— Ну пускай уехал! Я другого найду. Мне Ванька Жаренов сказывал — их много теперь, они опять разводиться стали… Сеня! Ступай отковырни, дай мне под подушку…
Душин слез с кровати.
— Вставай! — сказал он тихо.
— А что? — Лида поднялась.
— Уходи прочь отсюда, стерва!
— А куда?
— Туда! — закричал Душин с оцепеневшим сердцем, наслаждающимся собственной яростью, и выбросил золоченые туфли и новую шелковую одежду вниз по лестнице.
Лида пошла в ночной рубахе вслед за своим платьем и там оделась в темноте. Затем она покинула тюрьму и отправилась куда-то. Где живет Щеглов, она не знала, знала только его службу и пошла на вокзал в своем роскошном наряде. Люди ей не встречались, она одна топала каблуками туфель в осенней воздушной пустоте. На вокзальной улице ей попался неизвестный поздний человек и, приостановившись, спросил у Лиды: «Даешь?» Она ответила: «Нет, я все отдала уже», — и человек прошел мимо. Вскоре встретились еще двое и спросили то же самое. Лида им опять сказала, что ничего не дает, но прибавила, что хочет продать туфли и платье, которые одеты на ней, а сама уезжает в Москву.
— Где здесь спекулянты? — спросила Лида.
— Это мы! — ответили двое. — Идем раздеваться!
— А куда?
— Тут близко…
По дороге они четырьмя руками щупали на ней платье, объясняя, что боятся купить брак и подделку. Лида не ругала их, хотя ей было больно.
— А вы продайте мне какую-нибудь юбчонку и кофточку подешевле, а то в чем же я поеду!..
— Продадим, — соглашались спекулянты.
Вскоре они остановились у калитки деревянного домика с палисадником.
— Ну пойдем! — сказал один спекулянт и отворил калитку.
— Я туда не пойду, — отказалась Лида. — Вы думаете, я не вижу, что вы охальники!.. Я все знаю… Я постою, а вы несите поскорей мне деньги и старую юбку с кофточкой, я переоденусь на улице…
Здесь спекулянты схватили ее вокруг тела, чтобы унести насильно, но Лида завизжала таким издевленным, бабьим голосом, что люди сейчас же бросили ее держать.
— Вот глотка, сволочь! Аж сера в ушах закипела! — сказал один. — Не трожь ее, Серега, сейчас обходы ходят… Обожди нас, девка!
Они ушли в калитку. Лида ждала их долго и уже хотела уйти от обмана. Но один спекулянт вернулся и принес ей чьи-то зачумленные, немытые гуни и опорки. Лида примерила те гуни поверх своего шелка — юбка оказалась ветошью, ее носила, наверно, нищенка, привязывая веревкой к животу; кофта тоже была без важности, и баба, носившая ее, не имела ни плеч, ни грудей, а только одну костлявую длину. Однако Лида не стала придираться. Она получила деньги, скинула шелк и туфли, а затем оделась нищенкой-беднячкой и пошла в опорках на вокзал.
Снова перед нею, как в детстве — в годы полевого одиночества, — опасностью встала жизнь, все показалось чужим и безразличным. С берегущим, нежным чувством Лида погладила свое тело вокруг — больше у нее ничего не было, здесь находилось все ее оружие, крепость и достоинство. «Стану веселой, гулящей, буду нахалкой, жульницей, истрачу себя поскорей — и помру! — решила Лида свою судьбу. — А что? Что будет-то? Ничего!.. Если электричество наступит, так я уж видала его — горит пузырь какой-то, а есть нечего и в голове вошки живут!» В наставшей тоске она поскребла себе голову на ходу и вдруг улыбнулась: «Я теперь не одна живу, я теперь как мешок с птичкой!..» Лида села на порог уличного входа, склонилась к своему животу и спросила: «Дочка! А — дочка! Ты цела там? Тебе не скучно? Давай водиться с тобой вдвоем: я твоя мама».
До утренней зари Лида просидела на вокзале, среди тысячи дремлющих, невзрачных людей, прижавшихся к своим мешкам. Их сон был бдителен, при каждом свистке паровоза они бросались на выход, предполагая, что это подают состав для них. Но паровозы шли в одиночку, а железнодорожное начальство развозило пассажиров лишь из того, чтобы не собирались в одну кучу миллионы людей и не разводили тифа и чумы.