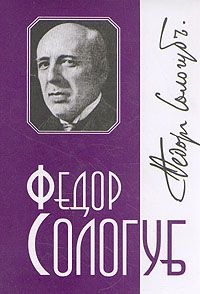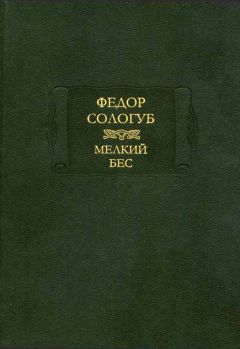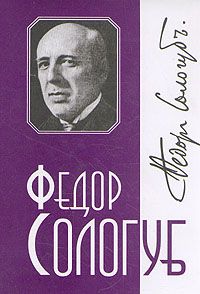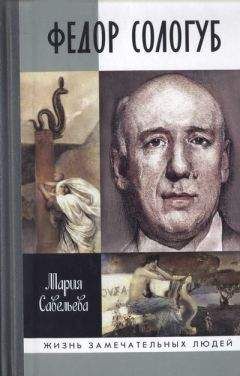Наряду с отрицанием мира в его настоящем аспекте мы находим у Сологуба и утверждение мира, как такового, чрез посредство я — солипсическая теория, тесно связанная со всей философской концепцией автора. Я — утверждает весь мир в самом себе:
Я — Бог таинственного мира,
Весь мир в одних моих мечтах.
Поскольку это удается Личности, постольку она принимает, утверждает мир. Вне Я — нет мира, нет ничего, не созданного им:
Я — все во всем, и нет Иного,
Во мне родник живого дня.
Во тьме томления земного
Я — верный путь. Люби Меня.
Разделяя во многом воззрения кантианцев, Сологуб также обусловливает бессмертное, вечное существование. Я, — то, что в религии называется будущею жизнью, — у Платона и Шопенгауэра — вечными идеями, у Ницше — вечным возвращением и т. д. На этот счет мы находим у Сологуба указания в предисловии к «Пламенному кругу»: «Рожденный не в первый раз, и уже не первый завершая круг внешних преображений…» И далее: «Разве земная жизнь Моя не чудо? Жизнь такая раздробленная и такая единая. Ибо все и во всем Я и только Я». Это то самое единое и самоцельное Я, с которым мы встречаемся в «Критике практического разума» и в воззрениях безвременно погибшего молодого философа Отто Вейнингера, у которого Я является единовременно и единым, и всем. «У сознавшего себя человека, — говорит Вейнингер, — ярко сознание бессмертия, неумирания своего Я».
На этом беспрерывном сосуществовании Я Сологуб полагает мистическую основу будущей социальной религии.
Я бросил вызов небесам,
Но мне светила возвестили,
Что я природу создал сам.
Личность, Я, стоит в центре мирового процесса. Только поместившись в этом центре, можно назвать себя Я, таковым.
Я создал небеса и землю
И снова ясный мир создам.
Вульгарный эгоизм, конечно, не имеет места в излагаемой системе мировоззрения; только Я, ответственное за весь мировой процесс, может по праву заявить: аз есмь. Весьма с этим схожи постулаты кантовской логики: «Я обязан отчетом только перед самим собой»… «Долг человека — смысл вселенной»… Относительно мировой центральности философы Возрождения думают приблизительно то же: «Вся природа заключена в известные пределы: но ты, человек, один на земле, предпишешь себе свой закон. Поставленный в середине мира, ты сам свободный, придашь себе вид, какой желаешь» (Пико Мирандола). В центральном Я находится точка равновесия мировых начал добра и зла, принятие и утверждение абсолютного да и абсолютного нет. Безусловно свободным Я может быть только при наличности равновесия всех мировых влияний, уравновешивающих любовь — ненавистью, веру — скептицизмом, наслаждение — страданием и т. д. Отсюда понятны экстатичность боли, мук и всех земных терзаний, воспеваемых поэтом.
Есть соответствие во всем,
Не тщетно простираем руки,
В ответ на счастье и на муки
И смех, и слезы мы найдем.
Еще в «Тяжелых снах» героиня находит «восторг в страданиях». В «Навьих чарах» Триродов объясняет ужаснувшей наших филистеров Алкиной: «Боль ужасна, но без нее скучна безоблачность жизни».
Вследствие этого уравновешенное Я движется только по законам внутреннего побуждения, — творчество его абсолютно свободно. То же и у Вейнингера: «Человек есть все, и потому он средоточие всех законов, и оттого он абсолютно свободен». Освобождение от закона Необходимости достигается уравновешивающим влиянием другого могущественного закона — Свободы. Человек, поставивший себя в центре мирового процесса, будет жить по законам творимой им воли, а не по законам исторической необходимости… Поэтому власть его над вещами беспредельна:
Околдовал я всю природу,
И оковал я каждый миг.
Какую страшную свободу
Я, чародействуя, постиг.
В этом последнем — отличие Я, различие двух эпох: до Меня и после Меня.
Изложив, насколько мы сумели, в постепенном ходе их развития теории философского мировоззрения Сологуба: I) пессимистическую, отвергающую мир в его настоящем аспекте; II) утверждающую мир, творимый личным Я; III) солипсическую, — теорию Я как центра мироздания, — служащую основой и вместе с тем посредницей между двумя названными, на первый взгляд противоречащими друг другу положениями, остается нам связать все воедино, отправляясь от той точки, где мы остановились, уклонившись по необходимости в сторону. Задачей нашей остается раскрыть пред читателем возможность перехода, светлых врат к новому миру, новой жизни, о которых в минуту откровенности проговорился кто-то из персонажей «Навьих чар». В предисловии к «Пламенному кругу» автор восклицает: «Хочу, чтобы интимное стало всемирным». Думается, что здесь и хранится ключ к этим искомым Вратам, — здесь надо его искать и найти. Дело, очевидно, в том, чтобы то интимное, личное, которое до сих пор составляло удел некоторых «отмеченных», стало всемирным и общим. Красота должна сделаться достоянием толпы, — выйти из храмов и хранилищ на открытые всем доступные площади и пространства. Это и осуществится в грядущем преображенном социальном строе, о котором пока еще мечтают Триродовы, Елисаветы, Елены, говоря: «осуществим утопию»… «Увенчать красоту и низвергнуть безобразие», — «Отринуть обычное, — и к невозможному устремиться» («Победа Смерти»).
Как совершится переход к этому счастливому и вольному бытию, — «где нет владык и рабов, где легок и сладок воздух свободы», — обещанному нам автором «Победы Смерти»? Сологуб предполагает — и против этого, конечно, можно многое и многое возразить, — что Врата, ведущие к этому преображенному миру, суть врата Смерти.
Но для всех — одна кончина,
Все различно — все едино.
Вследствие этого было бы крайне ошибочно считать Смерть у Сологуба пустяком, «Сквознячком», как выразился один из наших критиков, — самоцелью… Она нужна нам прежде всего для выявления социальной красоты всех этих жертв, радостно и сознательно кладущих свои юные жизни на алтарь Великой освободительной Литургии. Потому нам и не жаль праведников с золотистыми душами, падающих, подобно агнцам пасхальным, у подножия жертвенного Алтаря. Жизнью своей, — в ее настоящем, непреображенном виде, они, может, сделают меньше, чем искупительной смертью. Отдельных смертей мало, — нужны еще великие социальные кровопролития, великие революционные2 жертвоприношения, — все для той же цели — выявления социальной красоты жертвенной Смерти. И в самом деле: что может быть прекраснее Трагичного, — величественнее Христовой Смерти? Инстинктом художника автор подсказывает нам мировую красоту жертвенной Печали. Прекрасна и светла смерть мальчика Симы в рассказе на тему 9 января; прекрасна и легка сознательная смерть Гриши в «Рождественском мальчике», — его добровольный уход в «новый мир, через дверь темную, но верную»… Так же социально-красива смерть отрока Лина, восставшего на убийство человека, и мученическая кончина прекрасной Альгисты с невинным младенцем в трагедии «Победа Смерти». Все эти жертвы — переход, — тот «мост», по которому у Ницше придет в будущий преображенный мир грядущий сверхчеловек.
Из всего вышесказанного следует: задача настоящего момента — сделать интимное — поэта, художника, реформатора — общим, всемирным, доступным всем и каждому, заполнить бездну, отделяющую инициатора от толпы, актера от зрителя, творца от «черни». Это должно совершиться во всех областях творчества: здесь и последовательницы Дункан, и Театр Единой Воли, и Царица поцелуев — Мафальда, не стыдящаяся всем отдавать свое тело на улице, на площади, куда должны прийти все — званые и незваные, поэт и чернь.
Каков будет этот «преображенный» мир, упоминание о котором все чаще и настойчивее звучит в последних произведениях Сологуба? Будет ли то «безгрешная и ясная» звезда Маир или «далекая, прекрасная» земля Ойле, о которых мечтает поэт:
А я меж звезд найду дорогу
К иной стране, к моей Ойле.
Намеки, правда отрывочные и туманные, на это преображенное будущее звенят между музыкой строк еще не законченной симфонии «Навьих чар»… В описании триродовской колонии и его дома, где «живут ужас и восторг», можно найти кое-какие указания на реформы воспитания, одежды и других сторон внешнего жизненного уклада. «Одежда должна защищать, а не закрывать»… «Усыпить зверя и разбудить человека — вот для чего должна служить нагота». «Мы идем из города в лес, — от зверя, от одичания в городах. Надо убить зверя, — убить его». Убедительно звучит: «Мы совлекли обувь с ног и к родной приникли земле. И совлекли одежду, и к родным приникли стихиям, и нашли в себе человека, — только человека, — не грубого зверя, не расчетливого горожанина, а только плотью и любовью живущего человека».