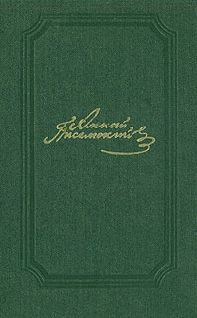Проходя домой по освещенным луною улицам, Иосаф весь погрузился в мысли о прекрасной вдове: он сам уж теперь очень хорошо понимал, что был страстно, безумно влюблен. Все, что было в его натуре поэтического, все эти задержанные и разбитые в юности мечты и надежды, вся способность идти на самоотвержение, - все это как бы сосредоточилось на этом божественном, по его мнению, существе, служить которому рабски, беспротестно, он считал для себя наиприятнейшим долгом и какой-то своей святой обязанностью.
Скрыпя перьями и шелестя, как мыши, бумагами, писала канцелярия Приказа доклады, исходящие. Наружная дверь беспрестанно отворялась. Сначала было ввалился в нее мужик в овчинном полушубке, которому, впрочем, следовало идти к агенту общества "Кавказ", а он, по расспросам, попал в Приказ. Писцы, конечно, сейчас же со смехом прогнали его.
После его вошла старушка мещанка, принесшая тоже положить в Приказ, себе на погребение, десять целковеньких и по крайней мере с полчаса пристававшая к Иосафу, отдадут ли ей эти деньги назад.
- Отдадут, отдадут, - отвечал он.
- Не обидьте уж, государь мой, меня, - говорила она и положила было ему четвертачок на конторку.
- Поди, старый черт, что ты! - крикнул он и бросил ей деньги назад.
- Виновата, коли так, кормилец мой... - проговорила старуха и, подобрав деньги, убралась.
Двери, наконец, снова отворились, и вошел непременный член с озабоченным лицом и с портфелью под мышкой. Вся канцелярия вытянулась на ноги, Иосаф тоже поднялся, чего он прежде никогда не делал. Член прошел в присутствие. Ферапонтов тоже последовал за ним.
- Что, как-с? - спросил он, глядя на начальника.
- А на-те вот, посмотрите... полюбуйтесь, - отвечал тот и вынул из портфеля журналы Приказа, разорванные на несколько клочков. - Ей-богу, служить с ним невозможно! - продолжал старик, только что не плача. - Прямо говорит: "Мошенники вы, взяточники!.. Кто, говорит, какой мерзавец писал доклад?" - "Помилуйте, говорю, писал сам бухгалтер". - "На гауптвахту, говорит, его; уморю его там". На гауптвахту велел вам идти на три дня. Ступайте.
В продолжение этого рассказа Иосаф все более и более бледнел.
- Спасибо вам, благодарю - подо что подвели да насказали, - проговорил он.
- Что же я тут виноват?.. Чем?
- Чем?.. Да! - проговорил Иосаф, почти что передразнивая начальника. Для вас, кажется, все было делано, а вы в каком-нибудь пустом делишке не хотели удовольствия сделать. Благодарю вас!
- Что ж ты уж очень разблагодарствовался! - прикрикнул, наконец, старик, приняв несколько начальнический тон. - Тебе сказано приказанье: ступай на три дня на гауптвахту, - больше и разговаривать нечего!
- Это-то я знаю, что вы сумеете сделать, знаю это!.. - произнес почти с бешенством Иосаф и ушел; но, выйдя на улицу и несколько успокоившись на свежем воздухе, он даже рассмеялся своему положению: он сам должен был идти и сказать, чтобы его наказали. Подойдя к гауптвахте, он решительно не находился, что ему делать.
Однако его вывел из затруднения стоявший на плацу молоденький гарнизонный офицерик, с какой-то необыкновенно глупой, круглой рожей и с совершенно прямыми, огромными ушами, но тоже в каске, в шарфе и с значком на груди.
- Что вам надо? - спросил он его строго.
- Меня на гауптвахту прислали, чтобы посадили, - отвечал Иосаф.
- А! Ступайте! Вероятно, за взяточки... хапнули этак немного, - говорил юный дуралей, провожая своего арестанта в офицерскую комнату, которая, как водится, имела железную решетку в окне; стены ее, когда-то давно уже, должно быть, покрашенные желтой краской, были по всевозможным местам исписаны карандашом, заплеваны и перепачканы раздавленными клопами. Деревянная кровать, с голыми и ничем не покрытыми досками, тоже, по-видимому, была обильным вместилищем разнообразных насекомых. Из полупритворенных дверей в темном углу следующей комнаты виднелось несколько мрачных солдатских физиономий. Чувствуемый оттуда запах махорки и какими-то прокислыми щами делали почти невыносимым жизнь в этом месте. Иосаф сел и задумался. Всего грустней ему было то, что он три дня не увидит своего божества; но в это время вдруг на плацформе послышался нежный женский голос. Иосаф задрожал, и вслед же за тем в комнату вошла Эмилия, в белом платье, в белой шляпке и белом бурнусе, совершенно как бы фея, прилетевшая посетить его в темнице.
Иосаф мог встретить ее только каким-то не совсем искренним смехом.
- Боже мой, что такое с вами? - говорила Эмилия с беспокойством.
- Так, ничего-с! - отвечал Иосаф, продолжая смеяться.
- Как ничего! Брат сейчас был в Приказе, там говорят, что вас посадили за мое дело! - возразила Эмилия и с заметным чувством брезгливости присела на кровать.
- Ничего-с, так себе, потешиться захотели... - отвечал Иосаф. - Все ведь мы-с, чиновники, таковы!.. Не то, чтобы сделать что-нибудь для кого, а нельзя ли каждого стеснить и сдавить... точно войско какое, пришли в завоеванное государство и полонили всех.
- О нет, вы не такой! - говорила Эмилия, смотря на него почти с нежностью.
- Я вас прошу и умоляю, - продолжал Иосаф, прижимая руку к сердцу, только об одном: не беспокоиться о вашем деле. Я для вас жизнию готов пожертвовать.
- Да, вы чудный человек, - подхватила Эмилия и задумалась.
Иосаф молча глядел на нее: сколько бы ему хотелось и надо было сказать ей, но ничего, однако, не осмеливался. Эмилия, наконец, встала.
- Как здесь нехорошо... грязно... - проговорила она и вздумала было прочесть одну из надписей на стенке, но в ту же минуту сконфузилась и отвернулась. - Прощайте, мой друг! Я буду еще у вас, - сказала она.
Иосаф по обыкновению поспешил поцеловать у нее ручку, и при этом она уже чмокнула его не в темя, не в щеку даже, но Иосаф так успел пригнать, что прямо в губы.
- О, какой вы хитрый, вы умеете воровать поцелуи! - проговорила она, вся вспыхнув, и проворно убежала.
Иосаф в восторге упал на диван и закрыл себе лицо руками.
Дня через два после того Ферапонтов шел по одному из самых глухих переулков. Почти уже на выезде из города он остановился перед старым, полуразвалившимся деревянным домом, с заколоченными наполовину окнами и с затворенною калиткою. Иосаф торкнулся было в нее; но оказалось, что она была заперта. Зная, вероятно, хорошо обычай хозяина, он обошел дом кругом и, перескочив, на задней его стороне, через невысокий забор, очутился в огромнейшем огороде, наглухо заросшем капустою, картофелем и морковью. Пройдя его, он вышел на двор, на котором то тут, то там виднелись почти с отвалившимися углами надворные строения. У колодца, перед колодой, неопрятная баба мыла себе судомойкой ноги.
- Клим Захарыч Фарфоровский дома? - спросил ее Иосаф.
- Дома, - отвечала баба.
Он пошел было на парадное крыльцо.
- Не туда, с заднего ступайте! - научила его баба.
Иосаф взошел по развалившейся лесенке на заднее крыльцо и попал прямо в темную переднюю. Чтобы дать о себе знать, он прокашлянул, но ответа не последовало. Он еще раз кашлянул, снова то же; а между тем у него чем-то уже сильно ело глаза, так что слезы даже показались.
"Что за черт такой", - подумал про себя Иосаф и что есть силы начал стучать ногами.
- Кто там? - послышался, наконец, из соседней комнаты разбитый голос, и вслед за тем дверь из нее отворилась, и в нее выглянул белокурый, мозглявый старичок, с поднятыми вверх тараканьими усами, в худеньком, стареньком беличьем халате.
- Ферапонтов из Приказа! - объяснил ему Иосаф.
- А! Ну войдите, войдите, - сказал старичок и впустил его.
Первое, что бросилось Ферапонтову в глаза, - это стоявшие на столике маленькие, как бы аптекарские вески, а в углу, на комоде, помещался весь домашний скарб хозяина: грязный самоваришко, две-три полинялые чашки, около полдюжины обгрызанных и треснувших тарелок. По другой стене стоял диван с глубоко просиженным к одному краю местом.
- Да! Так вот как! - сказал старичок, садясь именно на это просиженное место и утирая кулаком свои слезливые и как бы воспаленные глаза.
- Вот как-с, да! - отвечал ему в тон Иосаф и тоже сел и утер слезы.
- Это вы от луку плачете? У меня тут лук в наугольной сушится, - сказал ему хозяин, как-то кисло усмехаясь.
- Зачем же тут? Разве нет другого места? - спросил было Ферапонтов.
- А где же? В каком месте? - возразил Фарфоровский и уже злобно оскалился.
Как ни много Иосаф слышал об этом чудаке, однако почти с удивлением смотрел на его сморщенное и изнуренное лицо, на его костлявые и в то же время красные, с совершенно обкусанными ногтями, руки. Собственно по чину Фарфоровский был даже статский советник и некогда переселился в губернию из Петербурга, но всюду являлся каким-то несчастным: оборванный, перепачканный. Не столько, кажется, скупец, сколько человек мнительный, он давно уже купил себе этот старый домишко и с тех пор поправки свои в нем ограничил только тем, что поставил по крайней мере до шести подпорок в своей обитаемой комнате, и то единственно из опасения, чтобы в ней не обвалился потолок и не придавил его. В жаркий майский день Иосаф нашел его, как мы видели, в меховом тулупчике, и сверх того он еще беспрестанно боялся, что его отравят, и для этого каждое скудное блюдо, которое подавала ему его единственная прислужница-кухарка, он заставлял ее самоё прежде пробовать. Покупая какую-нибудь ничтожную вещь, он десять раз придумывал, давал за нее цену, отпирался потом; иногда, купив совсем, снова возвращался в лавку и умолял, чтобы ее взяли назад, говоря, что он ошибся. Дрожа каждую минуту, чтобы его не обокрали, он всю дрянь держал у себя в доме, даже дрова хранил в зале. Лук сушился в наугольной по той же причине. В отношении денег он более всего, кажется, предпочитал государственные кредитные установления, как самые уже верные хранилища, а потому в Приказ обыкновенно бегал по нескольку раз в неделю, внося то сто, то двести рублей, и даже иногда не брезговал сохранной книжкой, кладя под нее по целковому, по полтиннику.