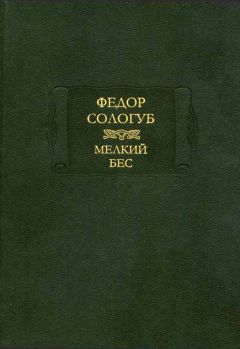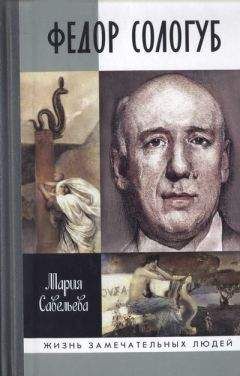— Ты о себе, однако, много не мечтай, — говорит Марья Николаевна. — Ты воображаешь, очень ты мне люб.
— Коли не погнушались прийти, — лепечет Кириллов, дотрагиваясь слегка пальцами до талии своей гостьи, так же осторожно, как до раскаленной печки, — то стало быть…
— Как бы не так, — перебивает Марья Николаевна, сердито отодвигаясь. — Своему черту назло, — так и знай. Изболела моя душа, на его такие качества глядючи. На отместку ему тебя завела.
— Очень мне обидно от вас такие жестокие слова выслушивать, — говорит Кириллов, смелее схватывая рукой талию Самсоновой, которая уже не отодвигается дальше.
— Обидно! Большая мне печаль! — отвечает Марья Николаевна. — Эх ты, сухопарый! Ты и целоваться не умеешь так, как он.
— Помилуйте, Марья Николаевна, уж я ли, кажется, не стараюсь.
— Дурак. И больше ничего. Мой-то сокол, пока еще я была ему люба… Эх, да что тут и вспоминать. Вот бросил, — а узнает, что я у тебя была, на месте убьет. А ты, слюнтяй ты этакий, и окошек занавесить вовремя не умеешь.
III
— Что тебя давно не видать у нас? — спросила Шаня, встретив Гарволина по дороге из гимназии.
— Мать шибко нездорова, — угрюмо ответил Володя.
Неонила Петровна сильно простудилась в один из ненастных зимних вечеров, пробираясь к своей старухе читать романы, — думала сначала, что это пройдет, перемогалась и наконец слегла. С каждым днем она заметно слабела. Володе страшно было думать, что мать умрет, но он не мог не думать об этом, — и напрасно старался утешить себя надеждой на выздоровление матери. Лекарь добросовестно и внимательно выстукивал и выслушивал ее грудь, присаживался к столу и мучительно выжимал из себя какие-то рецепты, — но помочь не мог. Он видел, что человек умирает, — но, может быть, и отлежится. Ему тоже неприятно было думать, что больная, которую он лечит, умрет, и он утешал Володю:
— Пока нет ничего опасного.
Но по лицу его Володя видел, что он говорит не то, что думает.
Дни, которые тянулись в боязливом и томительном ожидании, и тревожные ночи казались Володе случайным и нелепым кошмаром.
«Зачем, зачем? — спрашивал он себя. — Трудиться весь век, жить зачем-то без радости, без света, умереть в нищете. А еще несколько лет, — ведь она еще не старая, — я бы стал зарабатывать, — хоть бы покойная старость. Умереть, как умирает на мостовой кляча, заморенная работой!»
Дядины дочери, Катя и Люба, девушки по восемнадцатому и семнадцатому году, поселились у Неонилы Петровны, ухаживали за ней и занялись хозяйством. В доме было мало денег. Девушки озабоченно шептались и боязливо вели счет, сколько стоят лекарства…
Суетливая забота, неумолимая нужда, беспощадная смерть…
Кате и Любе жаль было тетю. Они плакали и разговаривали о своих приметах, которые, по их глубокому убеждению, предвещали смерть. Володя слушал их с досадой, но сжимал его сердце их наивный предвещательный лепет.
Смерть стояла над постелью больной и обвеивала ее холодным равнодушием, тупою покорностью. Недоумевающее выражение пробегало иногда в глазах больной, — перед нею мелькали смутные, серые тени, на лицо садилась откуда-то тонкая и липкая паутина…
Было ясное зимнее утро. Володя уже несколько дней не ходил в гимназию. Неонила Петровна третьи сутки не приходила в себя. Она лежала неподвижно, с полуоткрытыми, тусклыми глазами, в углах которых накоплялась какая-то странная пена, — и дышала торопливо, жадно. В тихой комнате, где мерно колотился маятник, страшно было слушать это бурное дыхание. Через короткие промежутки быстрые вдыхания и выдыхания сменялись глубоким вздохом. Эти промежутки становились все короче: Володя следил за ними по часам, — они уменьшались с поразительною правильностью. Настанет минута, когда грудь устанет дышать, сердце — биться.
«В одиннадцать часов все кончится», — высчитал Володя и тупо ждал.
В начале двенадцатого быстрые дыхания прекратились. Долгий стонущий вздох… другой… третий… Лицо, уже давно начавшее становиться мертвенно-неподвижным, подернулось пепельной тусклостью, которая быстро набегала от висков к губам, — жили еще только губы… Но вот губы вытягиваются, — беспомощное, детское выражение ложится на старческое лицо, — губы вытягиваются, словно просят, — восковеют, смыкаются… Опять разошлись, — нижняя губа мертвенно отодвинулась вместе с челюстью, продержалась так с полсекунды, и снова, как-то механически и быстро, рот закрылся — движение ужасное и нелепое… Еще раз то же движение… и еще раз… повосковелые губы сомкнулись навеки.
С тупым ужасом и любопытством смотрел Володя на грубый процесс умирания…
Тихая суматоха вокруг… Чей-то плач… Слезы на глазах… Ее глаза еще не закрылись. Володя закрыл глаза матери и придерживает мягкие веки пальцами, пока веки не застывают, сомкнутые…
Потом — возня над трупом… Ясный, равнодушный, злой день… Белый снег подернут разноцветными звездами. Яркое, мертвое солнце… Труп на столе, — хоронить надо… Забота, проклятая забота о деньгах. Идти к людям, просить.
Труп на столе, жизнь все та же, неумолимая, чуждая…
Володя мрачно шагал по улицам и злобно смотрел на прохожих. Болезненная баба с ребенком встретилась ему.
«Умрешь, умрешь и ты! — со свирепою злобою подумал Володя. — Так повосковеют и твои бледные губы».
И вдруг он заметил, что мимовольно повторяет смыкание и размыкание рта — ужасное, механическое движение умирающей матери.
Потом — опять дома: монотонное чтение псалтыри, панихида, ладан, свечи, чужие люди, мертвый обряд.
Старик священник заметил мрачное молчание и убитый вид Володи и начал его утешать.
— Грех отчаиваться, — говорил он неторопливо. — Господь все к лучшему устраивает. Ваша матушка пожила, — ну, что ж делать, Господь знает, когда своевременно кого отозвать из этого мира в лучший.
— А зачем дети умирают? — внезапно спрашивает Володя.
— Бог знает, что делает, а мы должны покоряться Его святой воле. Безгрешному младенцу и умирать легко.
— А зачем мертвые дети рождаются?
— Грешно, грешно, — говорит священник. — В смирении переносите испытания. Помыслите, — что мы и что Он.
Вот наконец и похороны.
Шаня пришла с матерью. Она утешает Володю. Но ему становится еще грустнее: мать умерла, Шаня недоступна, — для кого, для чего жить.
— Как же ты, теперь, Володенька, будешь жить? — ласково спрашивает на поминках Марья Николаевна, — у дяди, что ли?
— У дяди, коли пустит, — уныло отвечает Володя.
— Что ты, что ты, — бормочет старик-дядя, — как же не пустить. Ты нас не стеснишь: ты, брат, молодец, ты сам деньгу зашибаешь.
IV
Так и прошла зима. Были последние дни февраля. Снег уже подтаивал и зернился мельчайшими льдинками.
Хмаровы со дня на день ждали перевода в Крутогорск, но еще Женя не говорил об этом Шане: он помнил, как Шаня опечалилась, когда он первый раз рассказал ей, что отец хлопочет о переводе, — как она жаловалась, что он ее забудет, и как он должен был утешать ее и уверять, что всегда будет помнить и приедет за ней, когда кончит учиться…
Шаня после обеда выбежала в сад. Еще издали увидела она Женю, подошла к калитке и поджидала его, весело улыбаясь. Женина походка была радостно оживленная. Его ликующая улыбка издали радовала Шаню, и девочка качалась на скрипучей калитке, отталкиваясь от земли ногой, уцепившись руками за перекладины калитки.
— Славная погода! — крикнул Женя, вбегая в калитку. — Шанечка, не шали, — ручки прищемишь.
Он схватил ее за талию и стащил с калитки. Шаня смеялась, и глаза ее блестели: Женя редко бывал такой веселый и живой, такой радостный.
— А у нас радость, Шанечка, — оживленно начал он и вдруг смутился.
— Какая радость? — беззаботно спросила Шаня.
— То есть мои радуются, а для меня, Шанечка, большая печаль. Вот видишь, отец получил место в Крутогорске, и мы переезжаем скоро.
Шаня побледнела, и в расширившихся глазах ее блеснули слезы.
— Как же так! — пролепетала она, бессильно опускаясь на скамейку, запорошенную оледенелым снегом.
Женя смущенно стоял перед нею.
— Что ж делать, Шанечка… Мы еще поживем здесь немного.
— До лета? — оживилась было Шаня.
— Нет, Шанечка, — на будущей неделе едем. У нас все уж готово. Давно ждали.
— А как же твоя гимназия?
Женя весело засмеялся.
— Ну, в Крутогорске не одна гимназия.
— Ах, Женечка, я так и знала, что что-нибудь будет. Я нынче новый месяц с левой руки увидела. Вот так и вышло.
Женя видел, что Шане хочется плакать. Ему было жаль ее. Он сел рядом с ней, обнял ее и принялся утешать.
— Я тебе, Шанечка, писать буду, а ты мне. Потом я за тобой приеду и женюсь на тебе.
— Еще пойду ли я за тебя! — сердито ответила Шаня, отворачиваясь.