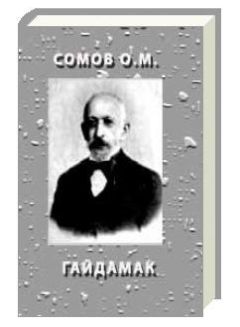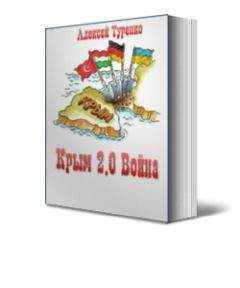В это время вошел кашевар, или походный повар пана Просечинского, и спросил, что прикажет готовить к обеду.
— Почти что ничего! — промолвил толстый пан прежним своим протяжно-томным голосом, который старинные малороссийские паны полагали в числе приличии хорошего тона, особливо, когда говорили с своими подчиненными или с мелкопоместною шляхтой. — Я человек больной, — продолжал он после некоторой расстановки. — Много есть не могу; притом же нынче постный день… Что у нас есть в запасе?
— Есть десятков пять крупных окуней да три сотни раков. Я закупил это для панского стола в последней деревне, которою мы проезжали, и сложил в мешки с свежею травою.
— Три сотни! много, очень много: я человек больной и много есть не могу… Сварить половину; остальные к ужину; а из рыбы изготовить уху; рыбы не к чему оставлять, еще найдем где купить… Ну!
— Есть свежепросольная осетрина, пуда два.
— Пуда два! много, очень много: я человек больной, и день нынче постный… сварить фунтов двадцать и подать с хреном. Ну!
— Есть сушеные караси.
— Сварить из них кулеш: это самое здоровое кушанье для больного. Дальше!
— Есть свежая белужина, фунтов тридцать.
— Фунтов тридцать! много, очень много… Да время теперь жаркое, свежая рыба может испортиться. Разрезать пополам; из одного куска сварить похлебку, прибавить в нее раковых шеек, а из другого, пополам с осетриной, солянку на сковороде. Ну!
— Есть у нас десятка два больших карпов…
— Изжарить их. Ну!
— Есть планчита и целый короб сладких пирожков.
— Подать планчиту и положить на блюдо пирожков… так, не больше двадцати; прибавить к этому гренков с поливкой из вишен, сваренных на меду… Ну!
— Есть балык, семга, сельди, кавьяр…
— Довольно, довольно! Подать всего этого к водке, перед обедом, по одной тарелке; слышишь ли? не больше! — Повар ушел.
— Дорога меня измучила, — продолжал пан Просечинский, — видите ли, дети, как я слаб, болен, как похудел? Вот мой шелковый халат теперь мне широк, сидит мешком… Не правда ли?
— Правда, правда, дядько! — подхватил шут. — И то правда, что ты велел его сшить взапас, думая, что тебе за пост и молитву прибавит бог дородства.
Толстый пан сердито посмотрел на шута, и тот пустился бегом из палатки. Скоро, однако ж, возвратился он, неся в руках свою бандуру и наигрывая на ней казачка.
— Не хочешь ли, дядько, промяться со мной перед обедом? это здорово: больше съешь и крепче уснешь.
— Пляши сам, вражий сын! — отвечал Просечинский.
— Изволь, я не прочь; только ты мне подари новые чоботы, когда я эти истопчу для твоей потехи. — И шут заиграл громче и пустился плясать с смешными телодвижениями и кривляньями, припевая:
По дорозi жук, жук, по дорозi чорний!
Подивися, дiвчина, який я моторний,
Подивися, вглянься, який же я вдався:
Хiба даси копу грошей, щоб поженихався.
Окончив свою пляску, шут сел на голой земле, поджав ноги по-турецки, и пропел под игру на бандуре еще несколько малороссийских песен, любимых его паном. Голос шута был чист и приятен, и в пении заметно было некоторое искусство. Пан Просечинский, нежась на пуховиках, свел глаза и как будто дремал; сыновья его выбежали из палатки и отправились смотреть своих собак и болтать с псарями и хлопцами; а дочь, сидя подле молодого мужчины, о котором выше было упомянуто, шепотом с ним разговаривала.
Между тем челядь толстого пана, отпрягши и расседлав лошадей, стреножив их и пустив на траву, собралась около кашевара, который, разведя большой огонь под открытым небом, готовил обед. Несколько медных котлов привешено было над огнем на железных присошках; большие кастрюли и сковороды шипели на угольях, и голодная челядь, облизываясь, жадно на них смотрела.
В это время подошел туда нищий, который, прихрамывая, брел по дороге. Он остановился перед кружком, собравшимся около огня, или, справедливее, около кушанья, и жалобным голосом проговорил нараспев: "Православные христиане! сотворите милостинку, Христа ради!"
— Какой тебе милостинки от нас! — молвил один из хлопцев. — Мы сами смотрим на чужой обед, а глотаем только дым.
— Много вас, попрошаек, по большим дорогам, — прибавил другой. — Об вас-то и думать, когда самим есть нечего.
— Пан наш так добр, что, верно, не откажет тебе в рублевике, — подхватил третий с лукавым видом. — А у него их очень много: видишь ли этот окованный сундук, позади рыдвана? Там есть чем наделить всех нищих в свете. В рыдване и того больше: там четыре шкатулки с червонцами, с дорогими перстнями и самоцветными каменьями. Да в той фуре, что стоит с краю от рыдвана, найдется другого-прочего тысяч на несколько. Попытайся: может быть, он тебе и уделит часточку.
Нищий, казалось, ловил на лету слова болтливого слуги. Может быть, он сравнивал бедную свою участь с богатым состоянием толстого пана; только заметно было, что он как будто бы что-то соображал или рассчитывал.
В эту минуту подбежали туда молодые панычи. "Зачем здесь этот бродяга?" — закричал старший.
— Оставь его, брат, — сказал младший, — он нас позабавит. Эй, ты, калека! умеешь ли играть на волынке?
— Не умею, добродию, — отвечал нищий.
— Ну так пой и пляши! — подхватил младший паныч.
— Я стар и слаб, петь мне не по силам, а плясать могу ли я с хромою моею ногою и увечным телом?
— О, так ты еще и упрямишься! — завопил старший брат. — Только со мною даром не разделаешься: ты у меня запляшешь и через палку… Брат! возьми у псарей арапник и подгоняй этого урода, а я буду держать палку: пустяка через нее поскачет!
При сих словах он вырвал клюку из рук нищего, и сей, от нечаянное потрясения, упал на землю и закричал громким болезненным голосом. Оба молодые шалуна стояли над ним и хохотали во все горло; малодушная челядь, из угождения ли своим панычам или по врожденной жестокости, тоже смеялась над бедняком.
Пронзительный крик нищего перервал дремоту толстого пана; он зевнул, потянулся, спросил, что там делалось, велел позвать к себе сыновей и подавать обед.
А в сього пана скам'я заслана,
Та на тiй скам'i три кубки стоять:
В першому кубцi — медок солодок,
У другiм кубцi — крiпкее пиво,
У третiм кубцi — зелене вино.
Колядка
Четверо хлопцев внесли в палатку складной стол, накрыли его шленскою скатертью, и дворецкий толстого пана, отомкнув погребец, достал из него четыре полуштофика с разными водками и несколько серебряных чарочек без поддонников, установил все это на тяжелом серебряном подносе узорочной обронной работы и поставил на стол перед своим паном. Хлопцы принесли потом на четырех или пяти тарелках сытную закуску, которая и теперь еще часто в малороссийских домах подается перед обедом и может заменить целый, весьма нескудный обед для желудков, не столько привычных к беспрерывной работе.
— Жарко! — промолвил пан Просечинский прежним своим протяжно-томным голосом. — Выпью мятной водки: это меня освежит. Пей, Леонтий Михайлович! продолжал он, обратись к будущему своему зятю, молодому Торицкому, налив водки и подавая ему чарочку. — Это водка здоровая, прохладительная. — Потом выпил сам, вздохнул, как бы от полноты удовольствия, и закусил. Все семейство толстого пана собралось вокруг стола и дружно принялось закусывать.
— Мне все что-то нездоровится, — сказал Просечинский, склонив голову на сторону с видом человека расслабленного, — не подкрепит ли меня эта запеканка? — Тут он налил настойки из другого полуштофа, выпил и продолжал работать вилкой и зубами.
— Не отведать ли нам этой любистовки, Леонтий Михайлович? это нам придаст аппетиту; я же почти ничего не могу есть: кусок нейдет в горло.
Торицкий отказался, а толстый пан, выпив чарку, принялся есть с новою охотой, как будто бы в доказательство, что любистовка пробудила его аппетит.
— Выпить было кардамонной: авось-либо она согреет мне желудок. Это необходимо на рыбную и соленую пищу.
Вслед за этими словами пан Просечинский выпил четвертую чарку водки и принялся доканчивать закуску, которой и так уже немного оставалось, благодаря ревностным стараниям толстого пана и обоих сыновей его.
Между тем шут, стоявший поодаль в ожидании подачки, первый заметил нищего, который, остановясь у входа палатки, безмолвно кланялся и, казалось, следил глазами каждый кусок. Это был тот самый нищий, на которого перед сим нападали шаловливые панычи.
— Разве ты не видишь, — сказал ему шут с таким видом, с каким жирный мопс косится на тощую дворовую собаку, умильно поглядывающую на кости, кои не для нее назначены, — разве ты не видишь, что панская прислуга еще не кушала? Убирайся за добра-ума: я так голоден и зубы мои так разлакомились, что могу и тебя схрустать вместо рыбьего позвонка.