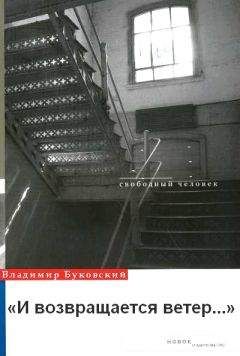Новости с воли доходили с трудом - в основном невеселые новости. Одних сажали, других выгоняли за границу. Кого на восток, кого на запад - и все это были мои друзья, люди, которых знал я уже много лет. Как ни жаль было посаженных, а оставалась надежда их увидеть хоть когда-нибудь - все-таки они исчезали не навсегда. Тех же, кого выгоняли на Запад, словно в могилу провожаешь - никогда уже их не видать. Пустела Москва, и как-то все меньше и меньше думалось о воле. Особенно же тяжело было, когда кто-то из знакомых отрекался или каялся, - точно часть своей жизни нужно было забыть навсегда. Долго потом всплывают в памяти эпизоды встреч, обрывки разговоров, и никак не заглушить их, как будто сам ты виноват в их предательстве.
Когда-то раньше был я очень общительным человеком, легко сходился с людьми и уже через несколько дней общения считал своими друзьями. Но время уносило одного за другим, и постепенно я стал избегать новых знакомств. Не хотелось больше этой боли, этой судороги, когда человек, на которого ты полагался, которого любил, вдруг малодушно предавал тебя и нужно было навсегда вычеркнуть его из памяти. Тяжело было сознавать, что вот сломали еще одного близкого человека. Старые зэки, стоя у вахты, когда заводят в зону новый этап, почти безошибочно предсказывают: вот этот будет стукачом, этот - педерастом, тот будет в помойке рыться, а вот добрый хлопец. Со временем и я стал невольно примерять на всех людей арестантскую робу, и оттого друзей становилось меньше. Постепенно остался какой-то круг особенно дорогих мне людей, потому что они были единственным моим богатством, все, что я нажил за эти годы, и уж если из них кто-нибудь ломался, то это было пыткой. И еще меньше становилось нас в замке, еще одно место пустело у камина, умолкала наша беседа, затихала музыка, гасли свечи. Оставалась только ночь на земле.
Теперь же вот эти дорогие мне люди уезжали навсегда на Запад, точно в пустоту проваливались. Глухо доходили о них сведенья, в основном из советских газет - словно голоса с того света. Последнее время и меня вдруг вспомнила советская печать. Почти шесть лет они молчали - выдерживали характер, а тут целая страница в "Литературке" - интервью первого заместителя министра юстиции СССР Сухарева. Еще в 72-м году, сразу после суда, появилась в московской газете статейка под заголовком "Биография подлости". При всей ее обычной для советской пропаганды лживости и обилии ругательств эта статья не выходила за рамки приговора, то есть не добавляла лжи от себя. Теперь же замминистра юстиции нес совершенную околесицу, даже отдаленно не напоминавшую моего приговора. По его словам, я обвинялся чуть ли не в сотрудничестве с Гитлером и в подстрекательстве к вооруженному восстанию. Забавно было читать все это, напечатанное миллионным тиражом, разосланное во все уголки страны, и при этом иметь на руках приговор с печатью советского суда. Любопытно - на кого рассчитана такая откровенная чепуха? В наше время, когда почти все слушают западное радио, когда меня даже конвойные на этапе узнавали, - что может дать такая глупость?
Разумеется, я пытался легально протестовать: написал письмо редактору "Литературной газеты", Генеральному прокурору, министру юстиции - тюрьма все конфисковывала. Ни одной жалобы по этому поводу мне не дали отправить, даже официальный иск о клевете в суд. Мне было любопытно получить хоть какой-нибудь, пусть самый нелепый, но официальный ответ. Забавность ситуации состояла в том, что по советским законам любой приговор суда, если он не отменен, обязателен для всех должностных лиц и организаций. Мне было интересно, как они вывернутся, поэтому я писал в очень спокойном, сдержанном тоне, воздерживаясь от выводов и оценок, лишь констатируя факт несоответствия публикации приговору. Однако тюрьма не пропустила ничего. Вот так они всегда и действуют: одни врут на всю страну, другие зажимают рот тем, кто может их разоблачить, - типично коммунистическое разделение труда.
Вызвал на беседу воспитатель, стал уговаривать - бросьте, не пишите, зачем вам это нужно? Чепуха все это, мелочь. "Как же так, - говорю, приговор именем Российской Федерации, он же обязателен для всех. Вы меня по этому приговору в тюрьме держите, и вдруг он оказывается неверным". - "Да ну, - говорит он, - не обращайте внимания, газеты всегда врут, стоит ли нервничать?" - "Да ведь замминистра юстиции пишет! Может, он лучше знает, за что меня судили? Может, мой старый приговор пересмотрели, изменили? А я сижу и ничего не знаю". - "Нет-нет, приговор правильный, не беспокойтесь, нам бы сказали".
Воспитатель наш, капитан Дойников, человек не злой, сам от себя гадостей не сделает. В сущности, обязанностей у него немного, никто всерьез от него не требует, чтобы он нас перевоспитал. Понимают, что это задача непосильная. Должен он время от времени проводить с нами беседу. С кем-нибудь другим мы и беседовать отказались бы. За последнее время сменилось их у нас трое или четверо.
Поначалу они все радовались, что перешли на легкую работу: ребята спокойные, матом не ругаются, не дерутся, в карты не играют, сидят себе тихо, книжки читают. Не работа, а дом отдыха! Но уже месяца через три просились от нас и согласны были идти к любым разбойникам и головорезам. С одной стороны, жало на них начальство, требовало на нас материал, требовало закручивать гайки. А когда мы давали отпор - виновным был воспитатель, ему сыпались на голову выговоры. С другой стороны, мы тоже не давали спуску, и от одних наших жалоб можно было одуреть. Да кроме того, не получалось у этих воспитателей контакта с нами, не могли они к нам приноровиться. Привыкли они к уголовникам, к их психологии. Там матом обложил, здесь в ухо дал, и глядишь - навел порядок. С нами же нужно было что-то особое, чего эти воспитатели никак понять не могли. Наконец поставили к нам этого Дойникова.
Считался он по тюрьме самым бестолковым офицером, самым глупым и безответным. Мундир сидел на нем, как на вешалке. Говорить он не умел, да был и не шибко грамотным. Отдали его нам в жертву, на растерзание, с расчетом, что месяца через три-четыре спишут на пенсию за неспособностью. Однако совершенно неожиданно он у нас прижился. Нас он вполне устраивал, и мы на него никогда жалоб не писали. Его нескладная худая фигура в нелепой засаленной униформе возбуждала скорее сострадание. Говорил он тоже нескладно, совершенно несвязно, постоянно перескакивая с одного на другое. При этом пробалтывался о многом, для нас важном. Понимал и он, что мы его терпим, а потому, вызывая на беседу, говорил о чем угодно: о рыбалке, о футболе - битый час мог городить околесицу. Изредка так, виноватой скороговоркой, вставит фразу-другую о политике партии и опять перескочит на свою мешанину без конца и начала, торопясь загладить бестактность. Так вот с часочек поболтает и запишет себе для отчета, что провел беседу. При ближайшем рассмотрении был он совсем не глуп, иногда даже поразительно изворотлив, и вся эта напускная бестолковость выработалась у него в жизни, как у зебры полосы, - в результате естественного отбора. А кроме того, нужно ему было как-то примирить свои жестокие функции с отнюдь не жестоким характером.
Удивительно, как это все примиряется в русском человеке. Я редко встречал садистов в должности надзирателей - даже злых по характеру людей среди них, в сущности, тоже немного. Обычно же это простые русские мужики, сбежавшие в город из колхоза. Но вот прикажут такому Дойникову нас расстрелять - и расстреляет. Он, конечно, постарается, чтобы его по бестолковости на такое дело не послали. Он и нас постарается как-то ублажить, чтобы мы на него за это не очень обижались. Но ведь расстреляет!
Стыдно признаться - много раз ему удавалось упросить нас забрать назад жалобы. Придет в камеру, станет с этими жалобами в руках как-то так жалостно и начнет свою бесконечную околесицу, свою бестолковщину. И всем своим видом так и просит: забрать бы надо, дескать, жалобы, совсем это ни к чему - жалобы ваши. Что ж это вдруг - жалобы да жалобы? Забрать бы их надо, и так жизнь собачья! И - черт знает что! - у нас война идет не на жизнь, а на смерть, нас уже почти задавили, заморили, а мы берем у него эти жалобы. Рука не поднимается, сил нет - Дойникова жалко...
Помню, в Институте Сербского на экспертизе работали у нас санитарками бабки, простые деревенские бабки, почти все верующие, с крестиками тайком за пазухой. Жалели нас эти бабки, особенно тех, кого из лагеря привезли или из тюрьмы, тощих, заморенных. Тайком приносили поесть. То яблочко незаметно под подушку подсунут, то конфет дешевых, то помидор. Забавно было смотреть, как они обращаются с настоящими сумасшедшими, такими, которые уже ничего не понимают, только смотрят в одну точку или бредут, не зная куда. Точно как крестьянки на коров, покрикивали они на психов безо всякой злобы: "Ну, пошел, говорю, ну, куда прешь? Ну, милый!" Так и казалось - сейчас хворостиной огреет. И вот эти-то бабки стучали на нас немилосердно. Каждую мелочь, каждое слово наше замечали и доносили сестрам, а те записывали в журнал. Случалось, и побеги готовились, а иной норовил симулировать, особенно кому грозит смертная казнь, - бабки же все замечали и обо всем тут же докладывали. А спросишь их, бывало: "Что ж вы так? Вы же ведь верующие!" -"Как же, - говорят, - работа у нас такая". Вот и спорь с ними. Может, и Брежнев неплохой человек, только работа у него скверная - генеральным секретарем.