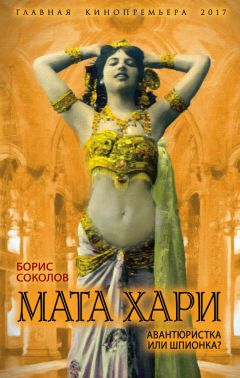Обещано мне было, что я к апрелю покончу счеты за «Пестрые рассказы»*. Но до сих пор я не получал ни счетов, ни ответов на свои письма. А на «Пестрые рассказы» в рассуждении своего путешествия я сильно рассчитывал. По крайней мере мне трудно будет выехать, прежде чем я не урегулирую свои денежные отношения.
Говорят, что Билибин получил командировку на Кавказ. Правда ли? Очень рад.
Пока в Москве всё обстоит благополучно. Слухи о повсеместной в Москве порке сильно преувеличены*.
Низко кланяюсь Прасковье Никифоровне, Феде и Спиридону Матвеевичу.
Будьте здоровы и благополучны и не забывайте нас грешных.
Ваш А. Чехов.
Суворину А. С., 1 апреля 1890*
797. А. С. СУВОРИНУ
1 апреля 1890 г. Москва.
1 апрель.
Христос воскрес! Поздравляю Вас, голубчик, и всех Ваших и желаю счастья.
Уезжаю я на Фоминой неделе или несколько позже, смотря по тому, когда вскроется Кама. Скоро начну делать прощальные визиты. Перед отъездом я буду просить у Вас корреспондентского бланка* и денег. Первый пришлите, пожалуйста, а насчет вторых надо погодить, так как я не знаю, сколько мне понадобится. Я теперь собираю с лица земли принадлежащие мне капиталы, еще не собрал, а когда соберу, видно будет, чего мне недостает.
Семья обеспечена до октября — в этом отношении я уже покоен.
Да, Ежов грубоват. Это плебей, весьма мало образованный, но неглупый и порядочный. С каждым годом он пишет всё лучше и лучше — это я констатирую. Вы пишете, что его фельетон имел успех. Если это тот, в котором идет речь о попе*, то спешу заявить, что я не исправлял его. По-моему, теперь Ежову как работнику пятак цена, но через 5-10 лет, когда он станет постарше, он будет нужным человеком. Главное, он порядочен и не пьяница. Есть другой, Лазарев, — это тоже хороший человек.
Вчера я прочел Ежову письмо Алексея Алексеевича*, который пишет, что Вы предлагаете ему, Ежову, аванс в 100 рублей. У Ежова жена больна чахоткой, нужно везти ее на юг, и от аванса он не отказывается, находя его своевременным. Он просит Вас прислать ему 100 рублей и просит также, чтобы контора удерживала в счет аванса не весь гонорар, а только половину. Всё это прекрасно, но я прошу позволения вмешаться и выдать ему сей аванс не теперь, а накануне его отъезда. Если позволите, я выдам ему сто рублей, когда он придет ко мне прощаться. Раньше выдавать нельзя, так как он потратит на чепуху и чахоточной жене его придется ехать в III классе.
Теперь об Островском*. Ответьте мне что-нибудь. Вы обещали издать рассказы его сестры. Напишите же, когда книга начнет печататься. Вся фамилия Островских томится.
Если у Алексея Алексеевича в самом деле полип, то излечить его насморк так же легко, как выкурить папиросу. Но едва ли у него полип.
Пришлите мне мой водевиль «Свадьбу»*. Если потеряли, то так тому и быть, отслужим сему водевилю панихиду.
Вчера был у меня один актер, участвующий в пьесе Маслова*. Не бранится. Значит, пьеса идет хорошо. Он уверял меня, что «Севильский обольститель» не оригинальная пьеса, а перевод.
Вы браните меня за объективность*, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть. Я пишу: вы имеете дело с конокрадами, так знайте же, что это не нищие, а сытые люди, что это люди культа и что конокрадство есть не просто кража, а страсть. Конечно, было бы приятно сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники. Ведь чтобы изобразить конокрадов в 700 строках, я всё время должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе, иначе, если я подбавлю субъективности, образы расплывутся и рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказам. Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам. Будьте благополучны.
Ваш А. Чехов.
Лаврову В. М., 10 апреля 1890*
798. В. М. ЛАВРОВУ
10 апреля 1890 г. Москва.
10 апр.
Вукол Михайлович! В мартовской книжке «Русской мысли»* на 147 странице библиогр<афического> отдела я случайно прочел такую фразу: «Еще вчера, даже жрецы беспринципного писания, как гг. Ясинский и Чехов, имена которых» и т. д… На критики обыкновенно не отвечают, но в данном случае речь может быть не о критике, а просто о клевете. Я, пожалуй, не ответил бы и на клевету, но на днях я надолго уезжаю из России, быть может, никогда уж не вернусь, и у меня нет сил удержаться от ответа.
Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я никогда не был.
Правда, вся моя литературная деятельность состояла из непрерывного ряда ошибок, иногда грубых, но это находит себе объяснение в размерах моего дарования, а вовсе не в том, хороший я или дурной человек. Я не шантажировал, не писал ни пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не оскорблял, короче говоря, у меня есть много рассказов и передовых статей*, которые я охотно бы выбросил за их негодностью, но нет ни одной такой строки, за которую мне теперь было бы стыдно. Если допустить предположение, что под беспринципностью Вы разумеете то печальное обстоятельство, что я, образованный, часто печатавшийся человек, ничего не сделал для тех, кого люблю, что моя деятельность бесследно прошла, например, для земства, нового суда, свободы печати, вообще свободы и проч., то в этом отношении «Русская мысль» должна по справедливости считать меня своим товарищем, но не обвинять, так как она до сих пор сделала в сказанном направлении не больше меня — и в этом виноваты не мы с Вами.
Если судить обо мне как о писателе с внешней стороны, то и тут едва ли я заслуживаю публичного обвинения в беспринципности. До сих пор я вел замкнутую жизнь, жил в четырех стенах; встречаемся мы с Вами раз в два года, а, например, г. Мачтета я не видел ни разу в жизни — можете поэтому судить, как часто я выхожу из дому; я всегда настойчиво уклонялся от участия в литературных вечерах, вечеринках, заседаниях и т. п., без приглашения не показывался ни в одну редакцию, старался всегда, чтобы мои знакомые видели во мне больше врача, чем писателя, короче, я был скромным писателем, и это письмо, которое я теперь пишу, — первая нескромность за всё время моей десятилетней деятельности. С товарищами я нахожусь в отличных отношениях; никогда я не брал на себя роли судьи их и тех журналов и газет, в которых они работают, считая себя некомпетентным и находя, что при современном зависимом положении печати всякое слово против журнала или писателя является не только безжалостным и нетактичным, но и прямо-таки преступным. До сих пор я решался отказывать только тем журналам и газетам, недоброкачественность которых являлась очевидною и доказанною, а когда мне приходилось выбирать между ними, то я отдавал преимущество тем из них, которые по материальным или другим каким-либо обстоятельствам наиболее нуждались в моих услугах, и потому-то я работал не у Вас и не в «Вестнике Европы», а в «Северном вестнике», и потому-то я получал вдвое меньше того, что мог бы получать при ином взгляде на свои обязанности.
Обвинение Ваше — клевета. Просить его взять назад я не могу, так как оно вошло уже в свою силу и его не вырубишь топором; объяснить его неосторожностью, легкомыслием или чем-нибудь вроде я тоже не могу, так как у Вас в редакции, как мне известно, сидят безусловно порядочные и воспитанные люди, которые пишут и читают статьи, надеюсь, не зря, а с сознанием ответственности за каждое свое слово. Мне остается только указать Вам на Вашу ошибку и просить Вас верить в искренность того тяжелого чувства, которое побудило меня написать Вам это письмо. Что после Вашего обвинения между нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собою понятно.
А. Чехов.
Суворину А. С., 11 апреля 1890*
799. А. С. СУВОРИНУ
11 апреля 1890 г. Москва.
11 апр.
А<лексей> А<лексеевич> уехал на юг. Виделся я с ним ежедневно, вместе обедал, ужинал, и всякий раз его здоровье производило на меня самое хорошее впечатление. Показывать его Захарьину или другому какому-нибудь светилу я положительно не нашел нужным, ибо нет ничего хуже, как явиться к врачу и не знать, на что жаловаться. Это баловство; приучать себя смолоду к беседам с врачами значит создать себе к старости самое плохое мнение о своем здоровье, что вредно, вреднее насморка. Я хотел показать его лучшему захарьинскому ассистенту, своему Корнееву, прекраснейшему врачу, который взял бы на себя решение вопроса о визите к Захарьину, но Алексей Алексеевич зафордыбачился, а я не нашел нужным протестовать и настаивать. Насчет носа нам не повезло. Беляев принимает только до девяти часов утра, после чего он исчезает из Москвы, а Ваш инфант не пожелал вставать рано. Я взял с него слово, что на обратном пути через Москву он зайдет к Корнееву; Корнеев приятель Беляева и устроит всё, что нужно; сей Корнеев приятель и Захарьина. Не забудьте сего и, если понадобится, обращайтесь к нему. Человек он хороший.