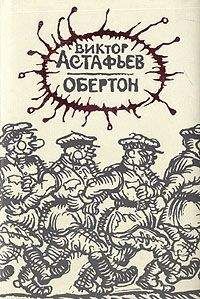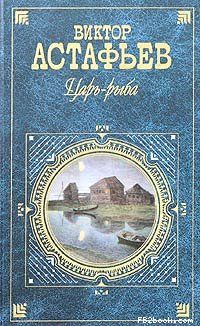Установилась наконец полная тишина, вроде даже слышно стало, как в скирде осыпаются зерна с колосьев и под дородным телом Любы, ломаясь, хрустит солома. Собачонка, обеспокоенная нами, перестала тявкать, и сразу забегали по винограднику птицы: шурша листвой, стуча клювами, они подбирали падалицу винограда на земле. Малая птаха, устроившаяся на ночь в ореховом древе, реденько роняла похожий на кругленькие ягоды голосок с настойчивым призывом всем успокоиться и спать ложиться. Ширился, густел и как бы приближался с полей звук цикад. Мерклый свет одиноко светящегося окна в глуби дерев и виноградника вовсе запал в кущи и запутался в их переплетении. Меня пробирало ознобом — без белья ведь на рандеву попал, а мундир солдатский, бесхитростноубогий, не греет и не красит человека.
— Пошли давай, чего уж… — буркнул я и от вечерней стыни, не иначе, зазевал во весь рот.
— Да не зевай хоть! — стукнула меня кулаком по башке Люба. — Скажи лучше, как жить-то?
— Чего я тебе, вещун какой иль комиссар, который наперед знает, куда идти, чего делать, как жить. — И не удержался все же от изгальства: — Свали какого-нибудь начальника, лучше генерала — они таких сиськастеньких обожают, — и живи себе в сытости и довольстве.
— Да ты-то, пехтура, откуда знаешь генерала? Небось за версту его зрел и драное галифе со страху обмочил.
— Зато ты зрела всех во всей красе изблизя.
— Н-ну, дурак! О-ох и дур-ра-ак!
— От дуры слышу!
— Если же я хочу жизни другой?
— Какой такой ты жизни хочешь? Я слышал, у тебя мать — известная певица в Москве. Учиться сможешь. Работу по душе найти сможешь. В театры ходить станешь, музицировать, в ресторанах с хахалями пировать!.. Это мне с мазутным рылом по мазутной части служить. Отец у меня — вагонный слесарь, мать вагонная малярка. Мать держится огородом, ждет домой работника. А что я умею, что могу? Соответствовать фамилии, какую мне ротные писаря изобразили, Слесарев.
— А как было?
— Слюсарев.
— О-о, мамочки! О-о, ми-ылочки-ы! — Люба поворошила мои волосы, теребнула за ухом: — Сере-ож! А все ж таки и тебе, и мне хочется жизни не жвачной, духовной…
«Я не то хочу, да молчу» — снова потянуло меня уязвить ее — мужика, мол, тебе здоровенного с жеребячьей ялдой хочется, а не того, у которого рана сочится.
— Хочется и мне, — переждав приступ раздражения, заговорил я, — чего скрывать, лучшей доли, вольной воли, выучиться бы и тоже в столице иль где дыму и грязи меньше жить, чистую работу править. — Вздохнул. — Бога бы попросить об этом, да ведь богохульниками были и остались. Я уж забыл, с какого плеча крестятся, а ведь мать учила, на колени ставила, лбом в пол тыкала…
— А я, может, уже и молюсь.
— Сектантка, что ли? С комсомольским значком на титьке! На щеку Любы неожиданно выкатилась слеза, зажглась, закровенела, засветилась на исходящем солнце. Люба слизнула слезу.
— До чего ж соленая!..
Я сразу же размяк, погладил Любу ладошкой по голове, прощения таким образом взыскуя.
— Редкие слезы всегда солоны, — почему-то угодливо получилось у меня.
Люба обняла колени и до глухих сумерек, быстро и густо наплывающих с полей, сидела не шевелясь. Я не смел ее тревожить. Мне первый раз пришло в голову, что чем человеку больше дадено таланту, тела и души, тем ему труднее вековать среди людей и вообще тащить себя по этому неприветливому свету, зовущемуся отчего-то белым. Может, Люба предчувствует чего-то? Что наломает она дров в гражданской жизни, я и не сомневался: привыкла жить в родном коллективе, где она не то чтобы царила, обласкана была, всегда на виду, всем необходима, и лелеяли ее, привечали, принимали со всеми загогулинами уже подпорченного характера. Но какая женщина без загогулин?
— Пойдем, Люба, домой, — тронул я девушку за плечо. — Не хотца больше с тобой ругаться.
— Пойдем, пойдем. Ты ж без белья, еще простынешь. Когда мы миновали островок опытной станции, в глуби которой светилось, тусклое оконце, и птичка, разойдясь, уже соединила капельки, рассыпая их звонкими бусинками, начали спускаться к местечку, Люба, явно не желая слышать баян, не желая видеть праздничных людей, предложила:
— Давай постоим еще маленько.
— Давай постоим, чего ж.
— Вот и хорошо. — Люба коснулась моей щеки, задержала ладонь на шрамах. Хорошо было бы, если б характер твой еще смягчился, чтоб раны твои заросли, сердце ныть перестало… — будто молитву произнесла она и коснулась ладошкой головы: — Вот и волосы твои уж отросли, они мягкие у тебя.
— Раны уже заросли.
— Неправда ваша, — возразила Люба, — штанина желтая от гноя, свищи сочатся, осколки выходят, а ты на конюшне навильники ворочаешь. Если рану засоришь — сдохнуть можешь, и мне тебя жалко будет.
— Раз уж раньше не сдох. Между прочим, ты меня так раззадорила на соломе, что я и про рану забыл, мог бы и умереть на тебе.
— Прекрасная смерть для мужчины. Великий художник Рафаэль, читала я гдето, испустил дух подобным образом. Ладно. Довольно болтать глупости. Зайдем в санчасть, перевяжет там тебя моя подруга… Какой длинный вечер! Какой тревожный свет все еще прожигает небо. Уж не пожар ли где? Пойдем давай, пойдем.
Зловещим светом налитой, бритвенно острой полоской подрезало холмы, подровняло лес на горизонте. Свет не мерцал, не двигался. Он остывал, погружаясь в темную глубину. Еще не проснулись ночные птицы, еще звезды не разгорелись в полный накал, лишь мерцали в вышине бесцветными маковками перепутье меж тьмою и светом.
Мы шли на огни селенья, спустились к речке, и когда уж за речкой, на подъеме, вступили в коридор сомкнувшихся тополей, Люба притянула меня к себе, коротко и больно поцеловала, перевела дух, сказала: мол, очень хорошо, что я завтра рано утром уезжаю гнать лошадей в дальний совхоз и не приду ее провожать, — уж так жалки, так утомительны прощальные вздохи, выпрашиванье адресов и фотокарточек, обет писать и помнить друг друга вечно… Зачем?
Я не спросил у Любы, откуда она узнала, что мне назначено поутру гнать лошадей; и когда поздней уже ночью я шел из санчасти в конюховку, так мне сделалось тоскливо, так жалко себя, что захотелось побыть одному. Я свернул в сад, долго и неподвижно лежал на остывающей в ночи земле, слушал, как притихает боль после перевязки раны, отходит сердце, защемленное в груди, вроде и поплакал, потому что, когда очнулся, лицо было влажное.
За речкой, в ярко освещенном помещении, в бывшей средней школе, по саду и в ограде сортировки все еще звучали песни — военный народ прощался с войною.
От речки наплывал ознобный воздух, из глубины сада веяло густо перевитыми запахами осени.
Осень перевалила на исход.
Кони в нашу почтовую часть все прибывали. Военные ведомства, занимающиеся репарациями, не интересовались, есть ли конюшни, корм в данной части, им главное — рассовать трофейное имущество, снять с себя ответственность, переложить ее на другие погоны.
Нестроевики, брошенные на конюшню, не справлялись с работой, поили лошадей из ручья раз в день, а со временем перевели лошадок на самообслуживание — выгоняли их в чистое поле. Крестьянские парни жили при лошадях — в шалашах, среди лохмато колеблющейся кукурузы. К пастухам наведывались пастушки, иные там и закрепились. Арутюнян, Артюха Колотушкин и Горовой — все руководили наиболее боеспособным звеном нашего войска, распоряжались и лошадьми: подвозили дрова, солому, буряки, отвозили назем в поля, грузы по столовым и ближним деревням. Когда началось распределение лошадей по ближним колхозам и совхозам на зиму, наши начальники взялись именовать себя уполномоченными, подозревалось, пару лошадей, если не больше, наши уполномоченные прогнали мимо цели — уж больно вкусно ели и пили, пастухов с невестами угощали. С полей доносило запахи мясного варева. Маленько перепадало и нам: уполномоченные боялись Славы Каменщикова, умасливали его всячески.
За лошадьми приезжали представители совхозов и колхозов, порою даже сам голова прибывал, с подарками на подводе: самогон, хлеб, сало.
Из совхоза «Победа», куда приказано было отправить пятнадцать лошадей, не приехал никто, лишь пришла в часть телеграмма: «Нетерпением ждем». Кони меж тем начали партизанить, выели все вокруг вплоть до стерни на полях, добрались до опытной станции, до местечковых огородов и дворов, вели себя агрессивно оккупанты же!
На другой день после большой гулянки по Ольвии стоял стон и плач. На станцию уезжала большая партия демобилизованных, среди них отправлялись на Урал Коляша Хахалин с Женярой Белоусовой и Толя-якут со Стешей — в недосягаемо далекую Якутию. Мечтали поехать на станцию провожать своих невест мои помощники, Ермила Головатый и Кирила Чириков. Но их не отпустили. С вечера получил на нас сухой паек наш строгий начальник — Слава Каменщиков, отметая всяческие сантименты, майор Котлов погрозил кулаком женихам, заодно и мне: «Если лошадей растеряете или пропьете — будет вам трибунал».