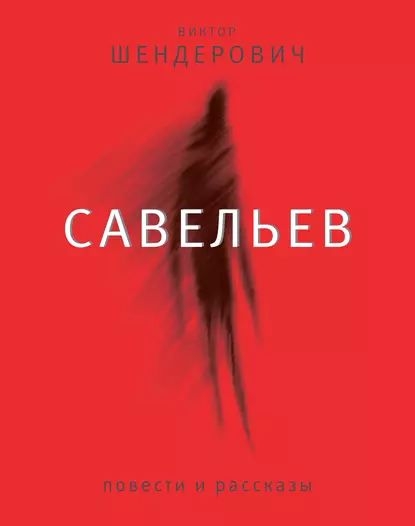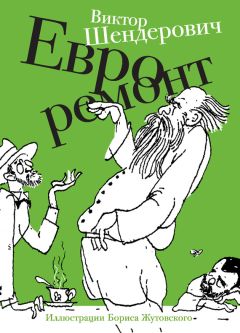кураторскую шкуру, когда писал свои передовицы; иногда он чувствовал, что этот живет в кишках.
В кишках жил и Ляшин.
Савельевское назначение «зёма» воспринял как личный успех, а журнал — как вотчину: присылал заказуху, приезжал с вискарем, ломал график, при всех называл Савельева «Олежек» и «братуха» — и чуть ли не распоряжался в журнале!
А у Савельева уже были друзья в Администрации, и друзья не чета «зёме»: тонкие, образованные, в меру голубые; с ними можно было поговорить на общие темы, посмаковать цитату, поднять самооценку, ощутить себя руководящим интеллектуалом в этой темной и дикой стране…
«Зёма» со своими блатными прихватами раздражал Савельева, и это место натирало все больнее.
На внезапные вести о ляшинских неприятностях савельевское сердце среагировало такой радостью, что он сам удивился высоте этой волны — и даже смутился немного. А дело было серьезное: «зёма» оказался под подозрением в похищении человека… Ничего личного, делили бизнес.
С тайным ужасом Савельев понял: он хочет, чтобы Ляшина посадили. Чтобы тот исчез из его жизни навсегда. Чтобы перестал улыбаться, хлопать по спине, называть «Олежек». Чтобы его опустили там, в камере. До сердцебиения хотел этого Савельев, до сточенных зубов, — но не замесили, видать, цемент для той стены, о которую расшибется «зёма»: все уладил, гад.
Уладил через месяцок, а до того — приперся к Савельеву на глазах у всей редакции и внаглую заперся с ним в кабинете. Давай, братуха, давай, напиши про меня. Благотворительность, …, все дела. Атака врагов! Савельев пытался откосить от этого ужасного позора, изображая тактическое благоразумие: все же знают, что мы знакомы! Пускай лучше кто-нибудь другой…
— Ты напишешь, Олежек, — отрезал Ляшин. — Ты! И кончай мне, …, советовать. Советчик. Ты делай, что говорят!
— Я не буду этого писать, — сказал Савельев, глядя в стол, и почувствовал на темечке холодные глаза «зёмы».
— Думаешь, я — все? — тихо спросил Ляшин, и страшно стало от внезапной этой негромкости. — Думаешь, меня не будет?
И еще один кусок тишины повис между ними.
— Ты ошибаешься, Олежек. Я буду.
— При чем тут?.. — с досадой произнес Савельев и вспомнил другое «при чем тут» — перед пощечиной, в проклятом пансионате, и похолодел от этой рифмы.
— Что, ел-пил, а теперь в сторону? — уточнил «зёма».
— Костя, — ответил Савельев. — При чем тут ел-пил! Ничего не в сторону. Я попробую помочь. Дай подумать.
— Ну думай, — разрешил Ляшин, с грохотом отодвинул стул и вышел.
У поэта стало кисло в животе. Только тут он понял, как боится «зёму».
«Твой друг отличился». Да какой друг!
Савельев отмахивался от подколов, но отмахивался робко: боялся, что передадут «другу». И, конечно, написал что-то… ну так, вообще… по касательной… больше о презумпции невиновности…
В общем, зафиксировал участие.
Ляшин, конечно, отбился и без него: дело закрыли. Да и неприкосновенность же.
И тогда «зёма» устроил большой мальчишник в честь победы над супостатами. Савельев был позван, и не было воли сказать «нет», и придумать отмазку тоже не получилось. Он приволокся, стараясь двигаться между струйками: то ли гость, то ли просто так зашел понаблюдать… Типа записки охотника.
Ляшин все видел, дьявол.
— Олежек, — сказал он громко. — Совесть наша. Не надо нами брезговать. Ты чувствуй себя как дома. Ешь, пей. Отдыхай!
И громко рассмеялся, но в глазах горели злобные огоньки.
От прилюдного унижения Савельев решил напиться и напился так, что даже весело стало от своей пропащей жизни. В сауне, где неизменно заканчивались все ляшинские мальчишники, он испытал дикий прилив мужских сил и полез драть какую-то мармеладову, но встретил отпор.
Разные обломы случались в мужской жизни Савельева, но проститутки ему еще не отказывали.
— Ты чего? — спросил он, ошалевший от такого поворота. И услышал:
— Константин Палыч велел вам не давать.
Онемевший Савельев прирос к лавке. Нимфы хихикали. Ляшин, в простынях, как в тоге, возлегал на наблюдательном пункте, в обнимку с двумя, и они тоже хихикали.
— Это я решил тебя поучить, Олежек! — сообщил он через всю сауну. — Чтобы ты помнил себя, рифмач… Ладно! Ксюша, обслужи человека. Я незлопамятный.
И все рассмеялись, и громко гыкнул на хозяйскую шутку сидевший тут же голышом ляшинский помощник Соркин. И Соркина этого возненавидел тогда Савельев такой ненавистью, какой не было никогда в его жизни…
Он и звонил теперь, блеклый хмырь из ляшинской сауны. Звонил — и через полмира дергал поводок, облегавший савельевскую шею.
Сидя в баре и поглядывая наружу, где все тянулся, удлиняя тени, этот странный день, Савельев решил: сейчас позвоню напрямую! И, отложив выключенный айфон, стал искать интонацию.
Следовало сказать как можно беззаботнее: прости, Костя, пропустил звонок; денег сейчас нет, но отдам обязательно…
А если не согласится?
В эту ловушку Савельев попал год назад. Под патриотический рок-фестиваль на пленэре ему отломили из