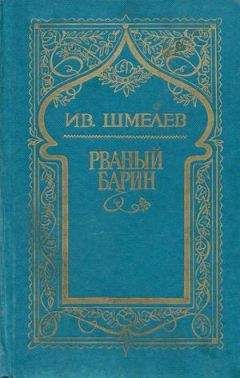– Пожалуйста… – сказал за всех писарь. – Погодите, товарищи! Слово принадлежит им. Желают нам возразить.
Должно быть, высокий рост учителя, его насмешливая улыбка и спокойный, уверенный тон действовали на беседующих: паренек прибрал костыль и даже похлопал по травке – садитесь, мол. Но учитель не сел. Он не спеша закурил, поправил пенсне и начал:
– Слушал я вас… хорошо, да только много тут вранья.
– Откуда вы можете доказать? – перебил артиллерист, расправляя усы. – Значит, я все наврал?
– Не то чтобы, а около того. Что было – то прошло, а теперь жизнь другая. С чего же имения-то громить? Это уж вы за волосы притягиваете зло-то прошлое, чтобы оправдаться…
– Ну, и выходит – ничего вы сами не понимаете!
– А вот посмотрим, – спокойно сказал учитель. – Вы вот понимаете, – постучал он удочками по статуе, – волокет из бани девку голый какой-то. Так? Ловко придумали! Вот и говорите-врете: и на какого черта деньги такие тратят, на пустяки? Почему? А потому. Смотрю-смотрю я на вас – жалко! Гуляют тут слепые, солнышка не видят, отняла у них глаза война. Так и вы…
Пошел было, но его остановил писарь:
– Что это вы панихиду затеяли, мы в вашем сожалении не нуждаемся. Лучше бы вот папироской угостили, коль сами курите…
Учитель оторопело полез за портсигаром и угостил. Потянулись руки, только бородатый отказался: самому мало. Когда закурили и писарь затянулся до кашля, учитель продолжал:
– Многое не так, друзья. Вот перед вами чудесная работа из мрамора. Большой мастер из камня выбил жизнь, живым сделал камень! Девушка… смотрите, как испугалась! А у этого все жилы, как живые… чуть надрежь – кровь вот-вот брызнет! Из мертвого – жизнь! Вы вот рассказывали, а я слушал, и забыл о войне, о сыне, который сейчас там. Да и вы забыли, небось, о многом. И сделала это сказка. Забыться, увидеть сон волшебный!.. А ведь это – тоже сказка чудесная! – показал он на статую. – А вы смотрели и не видели ничего. И не знаете, зачем поставили на этой зеленой лужайке эту штуку. А кто ее ставил – знал. И поставил со смыслом. Это жизнь. Тут и весна, и лето, и осень, и зима! Рождение и смерть.
Пять голов повернулось к нему. И он рассказал им давнюю сказку, как властелин преисподней, Плутон, похитил дочь богини земли, Прозерпину, прекрасную девушку… Они заслушались.
– Унес в подземное царство мрака. Затосковал старый бог, старый Зевс. И положил суд: пусть на шесть месяцев возвращается она погостить к отцу, к матери, на землю, под солнце. А значит это, что так греки, древний народ, хотели сказкой представить, как приходят на землю весна, цветы, наша рожь и пшеница, веселая травка. Вот она, милая девушка, эта весна, эта травка, которая осенью уходит к смерти. Похищает ее от нас мрак зимы, снега и морозы… Вот она, эта сказка, на луговине, сказка из камня! Уносит милую девушку темный бог! А она рвется к жизни. Или уж так непонятно?!
– Нет, ничего… занятно… – отозвался артиллерист.
Мальчик-солдат не сказал ни слова: смотрел во все глаза на учителя.
– А вы говорите: волокет девку из бани! Вот вы рассказывали о дворце в Калужской губернии. Заслушался я. И ясно видел того генерала с пузом и тот бугор… А дом тот стоит? А может, уж и сожгли, и теперь там груда камней? А ведь его строили ваши деды! Ведь на эти камни молиться надо! Вот и каждый день узнаю из газет, как сейчас жгут и громят… Жгут даже хлеб, рушат дома, парки, статуи… рвут и жгут тысячи книг и картин, которые рассказать могут такое, чего уже не услышишь и не увидишь. А ведь в каждой вещи… ну, посмотрите хоть на эту беседку, – показал учитель на островок, – ведь и в ней кусочек ушедшего, которое вам не нужно, но о нем пожалеют ваши дети! Оно им потребуется. Зачем? Чтобы знать, осязать глазами, как жили отцы и деды. Эх, ничего вы не знаете! – крикнул учитель, щелкнув по траве удочками, и пошел.
– Да вы не серчайте! – крикнул вдогонку писарь.
– Да скажите своим… – приостановился учитель, – чтобы не колотили сапогами статуй! Они не виноваты ни в чем! Вещи не виноваты!
– Ишь разоряется! – сказал артиллерист. – Не виноваты…
– Хорошо трепаться, кому – досуг… – отозвался все время лежавший на спине и смотревший в небо бородатый солдат с негнувшейся ногой, коленкой смотревшей в небо.
Паренек обхаживал статую, приглядывался.
– А что ж про собаку-то не сказал? Две-то головы… почему?
– Так нужно, – сказал писарь.
– Вот бы тебе, Андрюшка, о двух головах быть: одну прошибли, другая все кашу будет трескать…
Посмеялись и пошли домой. Сыростью потягивало от пруда. «Голая баба» стояла одиноко под круглой крышей на островке. Когда поднялись на горку и Андрюшка оглянулся на пруд, «баба» показалась живой, розовой, протягивающей к нему руку. Парк темнел, когда подходили к лазарету, старому зданию в колоннах. Андрюшка подошел ко льву с отшибленной пастью и поглядел.
– Что ж ему не сказался? – сказал писарь. – Кто морду-то починил!
Андрюшка сел на тихого льва и стал свертывать папироску.
– В Ермитаже я этого товару досыта нагляделся, скушно… – сказал артиллерист, тоже присаживаясь. – А то в одном именьи, Харьковской губернии… графыня жила… ну, и объявился в колодце черт, начал за ведры хвататься… Вот ей-Богу!
– Ну-ка, ну-ка…
И артиллерист, крякнув, начал забористый рассказ про черта.
(Власть народа 1917. 16 нояб. № 162 С 2, 19 нояб. № 165 С. 2, 24 нояб. № 168 С. 3)
Крепкий удар кулаком по столику покрыл гул чайной: пустой стакан бацнул со звоном в печку. Кой-кто подался к дверям – скандал, никак! – а кто и придвинулся, похрабрее. Но особенного не случилось: просто – горячий разговор. Сонный паренек-неряха вытянул из драной жилетки огрызок карандаша и сказал, выводя в бумажке:
– Рупь сорок за стакан с вас.
– Получай, Семеркин! – сказал, стукнув опять кулаком, рыжеусый гость, в синей куртке, в беличьей шапке. – Для оживления производства нежалко. Вот если бы твою умную голову разбили, ну… А доро-гая твоя голова!
– Может, дороже вашей… – сказал парень обидчиво и принялся подбирать стекло.
– Под пятьсот выгоняет! – пояснял извозчик. – Намедни его катал с барышней, храбро деньги дает.
– Теперь самый завалящий в сторублевку сморкается.
– А тебе досадно?! – отозвался с соседнего столика тощий человек с иглами в отворотах сального пиджака – портной. – Теперь расценок особый. Все недобавки должны возвратить неимущему человеку. Теперь пальто, например, дешевше ста семидесяти и шить не возьмусь.
– Тоже социалист! – показал большим пальцем из кулака на портного гость в куртке, обращаясь к сидевшему против него хмурому молодому человеку с русой бородкой. – Ваши ученики все. Уж и сдадут они вам экзамен на зрелость!
Молодой человек покусывал тонкий усик и смотрел в окошко.
– А вы что же, против социализму? За… которые грабили народ? в торговой части? – закидал словами портной, тоном приглашая соседей обратить внимание на непорядок. – Мучкой приторговываете… или?
– Как сказать… промышляю… – спокойно ответил в тон ему рыжеусый, наливая себе свежий стакан.
– Ох, не виляй, миляй! – погрозился солдат при мешке, из которого торчала волосатая свиная нога. – Стесняться нечего. Торгуем вот помаленьку и не гордимся, а для гражданской пользы. И никого не упрекаем Господь посылает – и ладно. Чем, всамделе, базарите? – уже благодушно закончил солдат, занятый разрезыванием на ломтики свиной грудинки.
Вынул пузырек из-под одеколону и, прикрывшись рукавом и подморгнув, отпил половинку.
– Настоящая! – сказал он, крякнув. – Только пузырек такой. По мучке?
– Было время – крахмал делал… – сказал, щурясь в усы, гость в куртке. – А теперь вот думаю гробами заторговать, – не без ехидства закончил он.
– Гроб-ба-ми?!
И соседи, и парень, все еще подбиравший стекла, так и загромыхали, а молодой человек, смотревший в окошко, передернул плечами и сказал, словно у него болел зуб:
– Бу-у-дет вам паясничать!..
– Чего смеетесь? По сезону и товар. А что же останется?! Мужички мне такой крахмал прописали, и такая у нас патока расчудесная вышла, что…
– Разнесли? – заинтересовался солдат. – У нас тоже, под Меленками…
– Понятно. Строить не умеем, значит, – надо разносить. Не сидеть же без дела! Крахмалить им нечего… Впрочем, о патоке жалели. И крест пожаловали…
– Кре-ест? У нас тоже, под Яльцом, барину Медкову та-акой хрест загнули… на небо влез!
Опять загромыхали, а портной ткнул с азартом кулаком об ладонь:
– Люблю манеру! Утюжь до паленого!
– Погляди, на! – усмехнулся гость, сдвигая рукав и показывая повыше кисти сине-багровый ожог. – Серною кислотой подрисовали, на память. А когда-то заводом жили. Выучил их картошку на песке водить.