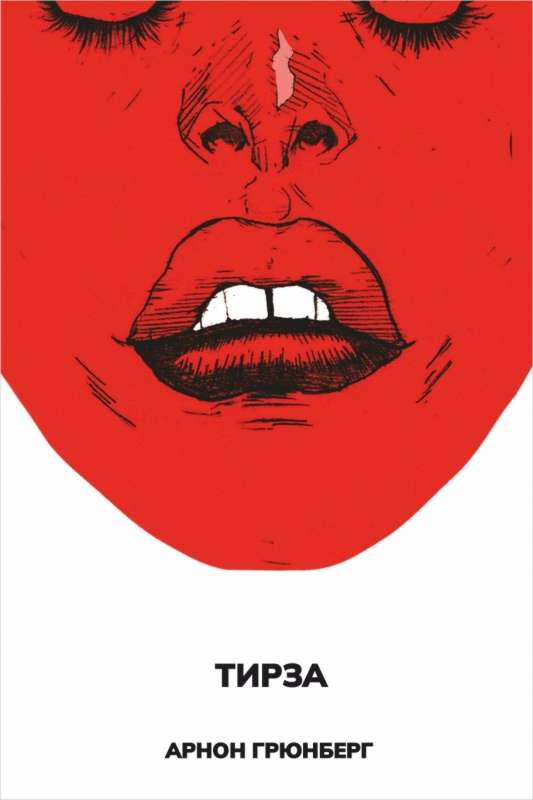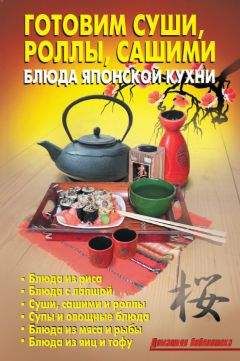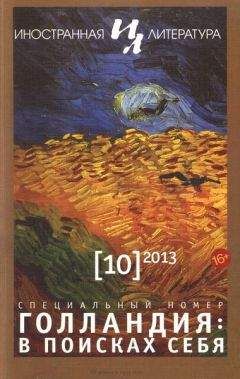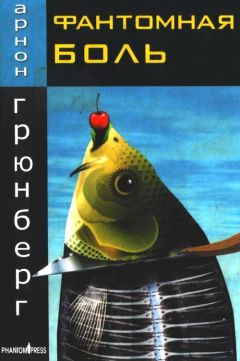дома. Только дорога, по которой иногда проезжали велосипеды и проходили люди.
— Это здесь? — спросил он у девочки. — Мы приехали?
Она ничего не ответила.
— Что случилось? — спросил он у водителя. — У нас сломалась машина?
Тот пробурчал что-то в ответ, но Хофмейстер не разобрал ни слова. Он взял девочку за плечи.
— Мы приехали? — спросил он. — Скажи что-нибудь.
И опять ее потряс.
Она кивнула и тихо, но отчетливо сказала:
— Да, сэр.
Он заплатил шоферу. Заплатил слишком много, но он не мог ждать сдачу, у него закончилось терпение. Он вышел из машины. Они оказались на обочине того, что в Намибии называли дорогой.
Хофмейстер увидел какие-то хижины на другой стороне, маленькие хижины с крышами, покрытыми чем-то похожим на шифер.
Трое мужчин жарили мясо на двух перевернутых дождевых бочках.
Солнце палило прямо в глаза, он натянул шляпу пониже на лоб.
Девочка ухватила его за руку и потащила вперед, мимо мужчин, которые жарили мясо.
Здесь не было ни одного белого, и он сразу понял, что их и не будет. Это был неподходящий для него район, неподходящее для него место. Они шли вдоль одинаковых строений, которые, возможно, назывались тут домами. Он не был в этом уверен. Но тут жили люди. Это оправдывало название «дом». Но «строения» подходило им больше, это было больше похоже на правду. С домами ведь как с красотой, все зависит от точки зрения. Девочка тащила его вперед все быстрее.
— Подожди! — крикнул он. — Не так быстро! И не дергай мой портфель.
Когда им на пути встречались люди, Хофмейстер опускал глаза. Он понимал, что не вписывается сюда, что его тут ненавидят. Но ему было все равно. Когда тебе некуда деваться, чужая ненависть тебя тоже уже не заботит.
Но ему все равно было страшно. Он боялся, что его закидают камнями или разорвут на части. Он боялся смерти, хоть и сам не понимал почему. Смерть не могла быть еще более безрадостной, чем жизнь, но наверняка она спокойнее, тише. Она казалась более мирной. В смерти он видел то, чего не смог найти в жизни: исцеления.
— Куда ты меня ведешь? — спросил он шепотом. — Тирза, так нельзя.
Только через пару секунд он понял, что назвал девочку Тирзой.
Он не стал исправляться. Она все равно его не услышала.
Ребенок бежал все быстрее. И теперь уже он сжимал ее руку. «Если она меня отпустит, — подумал он, — она исчезнет в какой-нибудь из этих хижин, а я потеряюсь, я понятия не имею, как выйти обратно к шоссе. Они тут разорвут меня, медленно и бесшумно. Они накажут меня за преступления, которые я не совершал».
— Не так быстро, — взмолился он. — У меня очень болят ноги.
Минут через десять они оказались у хижины. Вместо двери была занавеска от душа.
Роль прихожей исполняли три пустые сковороды прямо на земле. За ними была настоящая дверь или, по крайней мере, больше похожая на настоящую.
Внутри было темно. Хофмейстер ничего не видел. Но зато сразу почувствовал вонь. Тут воняло, как на помойке.
Ему стало дурно от этого запаха. Он его взбесил.
Хофмейстер зажмурился, снова открыл глаза, но все равно ничего не смог разглядеть.
Вместо пола был просто песок, он почувствовал его под сандалиями. Ему захотелось позвать на помощь, чтобы хотя бы услышать человеческий голос. У него появилось странное желание — заорать изо всех сил и позвать Бога. Нет, он не был верующим и не собирался им стать. Но мысль, что на него сейчас никто не смотрит, что его видит только эта девочка, а больше никто, ни одна живая душа за ним не приглядывает, была для него невыносимой.
— Каиса, — позвал он. — Где мы?
Глаза начали медленно привыкать к кромешной темноте. В углу комнаты на подобии кровати лежал человек, прикрытый какими-то тряпками.
Женщина.
Ребенок потащил его к ней.
— Это твоя мать? — спросил он. — Каиса, это твоя мама?
Он беспокойно теребил полы своего пиджака.
Потом почесал голову.
— Меня зовут Йорген Хофмейстер, — сказал он, держа в руке шляпу. — Я провел пару дней в обществе вашей дочери. Или, лучше сказать, она составила мне компанию в эти несколько дней. Это были особенные дни. Мы много говорили друг с другом. Это было невероятно приятно. Ваша дочь — очень теплый и душевный человек.
Оказалось, что мать жива, потому что она открыла глаза. И поморгала. Из-за вони Хофмейстеру стало дурно. Ему показалось, что он сейчас упадет в обморок или его вырвет. Что он будет блевать в этой хижине как собака и ползать в собственной блевотине.
— Вы меня понимаете? — спросил он. — Или вы говорите на африкаансе?
Она пошевелила губами, как будто хотела что-то сказать, но изо рта у нее не раздалось ни звука.
— Я не понимаю твою маму, — сказал он Каисе. — Я ее не понимаю.
Каиса тоже молчала.
Он встал на колени у кровати. Брюки у него и так были все в пятнах. В Африке на это было плевать. Это была не улица Ван Эйгхена. В Африке почти на все было наплевать. Другая страна, другие правила.
На лице у женщины сидели мухи.
Он смахнул их.
— Я вас не понимаю, — сказал он. — Но я друг вашей дочери, Каисы, я ее друг из Нидерландов.
Тут она пошевелила руками.
Он посмотрел на ее руки, он смотрел, как они двигались, как будто наблюдал экзотический спектакль в кукольном театре, и ему понадобилось несколько секунд, пока он понял, что это язык глухонемых. Что она говорила с ним на языке глухонемых.
Он поднялся и снова стал неловко теребить полы своего пиджака. Он искал что-то во внутренних карманах.
— Я не владею языком жестов, — сказал он как можно громче и отчетливее.
Но при этом подумал: «Она глухонемая, вот в чем дело. Она глухонемая».
— Что говорит твоя мама? — спросил он. — Я ее не понимаю.
А потом закричал:
— Я не владею языком жестов!
Хофмейстер встал на колени перед Каисой и сказал:
— Мне нужно идти. Мне нужно вернуться в город. Я поцелую тебя на прощание, Каиса. Я не могу тут остаться. Я тебя просто поцелую. Ты знаешь, что говорит твоя мама?
Тишина. Жужжание насекомых. Мухи десятками пикировали на голову и тело матери Каисы. Это тело было аэродромом для мух, не более. Аэродромом.
— Вы хотите компанию, сэр? — спросила Каиса шепотом. — Сэр?
— Нет-нет, — сказал он. — Нет-нет! Она говорит на языке глухонемых, ты разве не видишь? Она говорит на языке жестов. Твоя мать. Она что-то говорит, но мы