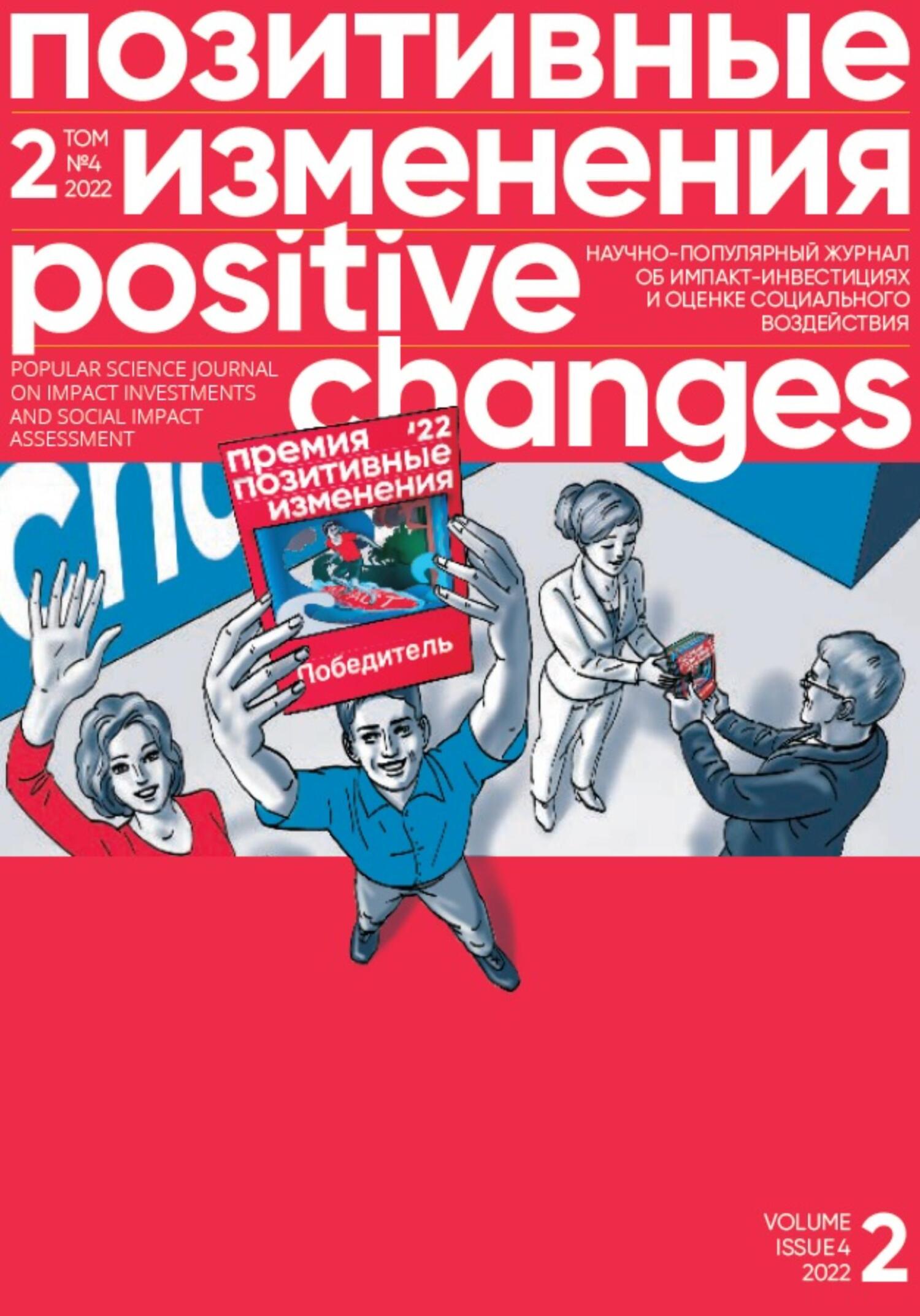действительно проезжали в этот момент россыпь небольших домишек, больше всего напоминавших бы английские
cottages, если бы не церковка в русском стиле, притулившаяся среди них.
– Это мы где, в Парголове?
– Нет, – покачал головой Викулин, сразу, впрочем, вспомнивший свою роль, и торопливо добавил: – Не ведаю, голубушка.
– Это дом призрения душевнобольных, учрежденный Александром III, – проговорила я машинально – и, не успев докончить фразу, поймала на себе внимательный взгляд Викулина.
– А неплохо они там устроились, – восхищенно протянула Мамарина, разглядывая нарядные домики посреди идиллического пейзажа и казавшиеся небольшими фигурки, прогуливающиеся между них.
– Да, я кое-что про это слышал, – отвечал Викулин, по-прежнему смотря на меня. – Там неопасных сумасшедших отпускают одних гулять по территории и в церковь, причем доступ туда настолько свободный, что на большие праздники в больничную церковь набиваются дачники со всех окрестностей, и иногда даже не поймешь, кто тут пациент сумасшедшего дома, а кто снимает особняк по соседству за триста рублей. Но вообще это очень прогрессивная больница, там не бьют никого, в ледяную ванну не опускают, и вообще…
Рассказ его был прерван появлением патруля: двое вооруженных мужчин в шинелях без знаков различия молча шли по центральному проходу, вглядываясь в лица пассажиров. У наших лавок они остановились, и я почувствовала, как Викулин задержал дыхание, но заинтересовали их не мы, а наш сосед-южанин.
– Васи документи, – тонким шепелявым голосом проговорил один из патрульных.
Сосед, досадливо усмехнувшись, спрятал записную книжку и потянул из кармана сложенную вчетверо бумагу. Патрульный развернул ее, несколько секунд молча на нее смотрел и передал товарищу. Глаза того слегка расширились, и он чуть не с поклоном вернул ее незнакомцу. Тот снова ухмыльнулся, достал из другого кармана томик стихов, раскрыл его и уже не отрывался до самой конечной станции.
Поезд, последний раз содрогнувшись, остановился, и все пассажиры нашего вагона высыпали на перрон. Мне очень хорошо знакомо это острое чувство неприкаянности, с особенной силой одолевающее в таких ситуациях: только что, волею слепого случая соединенные под одной крышей, мы, несколько десятков мужчин и женщин, ехали в одном вагоне, представляя собой хоть эфемерную, но общность: например, если бы наш паровоз сошел с рельсов, синхронность наших судеб получила бы фактическое подтверждение, но это, конечно, крайний случай, нужный лишь для наглядности. Но вот путешествие окончилось, и жизни наши снова разрознились: бо́льшая часть пассажиров просто подобрали свои узлы и укладки и двинулись прочь, кого-то встречали непосредственно на перроне, кто-то, слегка помешкав, с фаталистической простотой полез прямо под вагон, ленясь обойти вставший поезд, – и через несколько минут на дощатой платформе остались лишь мы четверо с нашим незамысловатым багажом, только в дальней части, у самого здания станции, видны были несколько вооруженных мужчин.
Был чудесный майский день. Паровозная гарь осела, и природа вокруг нас вновь предстала в каком-то первобытном безразличии к нашему существованию: по ту сторону рельсов росло несколько крупных берез в окружении молодой зеленой поросли; судя по их величественному виду, им в свое время пришлось наблюдать, как их невезучих товарок рубят топорами, чтобы проложить ту самую дорогу, по которой сейчас приехали мы. Из кроны одной из них свистал соловей, но как-то неуверенно, словно дебютант, впервые приглашенный солировать в большой концерт и, снедаемый робостью, репетирующий днем накануне особенно коварное место будущей программы.
Я усадила Стейси на корзину Викулина как самую большую и удобную; он сердито посмотрел на меня, но ничего не сказал. Мамарина мягким голоском поинтересовалась, чего мы, собственно, ждем. Викулин буркнул, что проводник должен был встречать нас на перроне, и лично он не понимает, почему этого не произошло. В эту самую минуту я заметила у соседнего вагона, внизу у самых рельсов, странное шевеление, как будто какая-то темная фигура пряталась там от нас, но старалась при этом не терять нас из виду: то вроде выглянет на секунду, то опять уберется в тень. Только я хотела обратить внимание своих попутчиков на это странное поведение, как фигура отделилась от темной ниши и отправилась к нам. Это оказался наш недавний сосед, армянин или грек с записной книжкой и таинственными верительными грамотами. Подойдя снизу к краю довольно высокой платформы, он одним движением и без видимой натуги забрался на нее и предстал перед нами. Прячась, он успел замарать свой костюм и руки и теперь досадливо вытирался светлым платком. В крупных, тяжелых чертах его красноватого лица было что-то собачье: без улыбки он оглядел нас четверых, после чего произнес с утвердительной интонацией: «Гавриил Степанович со спутниками?»
– А вы-то, собственно, кто? – не очень любезно отвечал Викулин, явно раздосадованный тем, что все идет не по его плану.
– Ваш проводник.
– Финский крестьянин?
– Именно он. Может быть, у вас есть какие-то предубеждения на этот счет?
Викулин явственно смешался, но покачал головой.
– Между прочим, они могут появиться у наших простоватых, но злопамятных друзей с той платформы (он показал кивком на патрульных), так что, если вы не против, мы можем двигаться в путь.
Он взял наши с Мамариной вещи, я подхватила Стейси, и мы пошли; сзади топал недовольный Викулин со своей драгоценной картиной. Кем бы ни был наш таинственный проводник, местность он явно знал: после третьего поворота, когда мы, повинуясь его указанию, нырнули в совершенно незаметный проход между домами, я полностью потеряла представление о том, откуда мы вышли и куда направляемся. Приминая траву, раздвигая доски в чужих заборах, переходя через неглубокие канавки по замшелым мосткам, мы шли минут двадцать, пока не оказались наконец у крупного, потемневшего от времени одноэтажного дома, от нижних венцов до крыши полностью увитого девичьим виноградом. Извинившись, проводник оставил нас на улице, а сам зашел внутрь и вполголоса переговорил с кем-то невидимым, после чего вышел и пригласил нас зайти.
Большая комната, служившая, вероятно, гостиной, была обставлена по-городскому: посередине темный, тяжелый овальный стол, на полу – сильно истертый, но настоящий ковер, несколько стульев с гнутыми спинками и одно старинное кресло, в котором спала крупная старая собака: при виде нас она подняла голову, внимательно посмотрела на каждого и снова заснула. Прислушавшись к ее мыслям, я поняла, что в доме живут трое взрослых и двое детей, что вчера с ней долго гуляли и что ее вековечный враг спрятался сейчас на кухне на печи. Проводник предложил нам располагаться, сообщив, что выйдем мы только с наступлением сумерек. Викулин не слишком галантно выбрал себе лучший из стульев, устроился на нем и стал просматривать какие-то бумаги, извлеченные из корзины. Его лицо сразу приняло