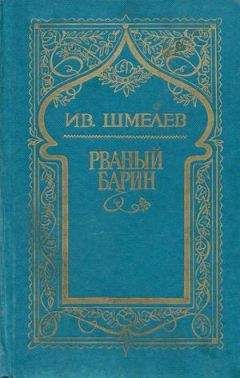И на каменной гробнице Шатер-Горы, откуда выглядывает север, ничто не ударит душу. Холодно там!
И опять я – в теплых виноградных садах, плетусь по кустистому дубнячку и грабу, в колком войске цепкого дер-жи-дерева. В трещинках – обжигающие тропки, кривобоки колющие кусты, но мило душе: все здесь само в себе, как указано Вечной Силой.
Приложи ухо к морщинкам этой земли, – и услышишь, как повторит она биение твоего сердца. Я люблю слушать этот ровный деловой стук, будто постукивание крови этих теплых холмов, за которым уловит ухо и знойный треск поющей цикады, – сорвавшейся часовой пружины, – и шорох ящерки в ворохе прошлогодних листьев, и неведомо где поклевывающую мотыку, и тяжелую поступь старого Алима, пробирающегося взглянуть на старый сад свой вон за той горкой. Все это, будто мало заметное, – здесь, на воле, одинаково значительно для меня, и счастлив я часами сидеть бездумно на придорожном камне… За тысячу верст ухо мое чутко слышит шелест сухой травы на пологом скате, откуда подымается вышка фермы… Вольная мысль подхватывает меня, – и вот заливают меня живые звуки, благодушно глядят влажные коровьи глаза, и тонко позванивает струящееся доенье…
Творящая жизнь! Я в чуде. Еще вчера ленивые желтобрюхи грели на пустыре под солнцем свивающиеся кольца. Но пришел искавший воли в камнях и зарослях, и сказал: да будет! И высоко подняло свой шпиль новоселье-ферма. Цветная семья нежащихся в солнце коров наливает сверкающие ушаты теплым молочным ливнем… Я сажусь на черный распряженный тарантас, как огонь горячий, и тихо живу радостно творящейся здесь несложной жизнью, густым духом прожаренного парного стойлища, сверкающими нитями тягучей слюны, сладостным шумом сливаемого молока, бойкими пальцами, играющими под коровьим брюхом, звонкой поросячьей стайкой, мчащейся с визгом за колышущейся маткой к пойлу, голоногой девочкой-двухлеткой, зажавшей в обожженном кулачке кусок белого ситного с голову, – всей этой сытью и гущиной живой жизни. Я хочу быть так вечно, ничего не видеть, ничего не слышать, ни о чем не думать: ни о свободе, ни о гнете, ни о дерзаньях незрелой мысли, за которыми льется кровь. Я хочу протянуть руку создавшему эту сказку на пустыре и сказать ему: «Избрал ты благую часть!» И он ответит, я знаю, вдумчиво глядя в беспредельное море, открывающееся отсюда: «Да, живу и творю».
Скажет и подойдет к кротко выдаивающейся лучшей своей красавице на ферме и домовито потреплет за бархатное ухо.
Как чудесно! Как мирно позвякивают ведра, потрескивают цикады, мычат коровы и шипит пенящееся молоко! В этих звуках и голосах – покой и свое: ни затаившейся зависти, ни кипучей злобы, ни… Только мычанье, и треск, и звяканье, свое только, само в себе.
Я дремлю на жарком, как огонь, черном тарантасе, в море солнца. Звуки слабнут, глохнут… держится еще одинокий, тоненький-тоненький – струйка теплого молока в ведре… И опять громче, резче… Вливается холодящий шорох, будто бьется что-то холодное, брызжет дробно… пугливая мысль ушла, – и вижу я, как тянутся за окном густые низкие тучи и кропят-плачут по стеклам.
Июнь 1918 г.
(Свобода России 1918 23 июня № 54 С. 1)
Заплуталась деревня в «темном лесе» советских декретов и действий, заплуталась – и тщетно стремится выйти к свету и солнцу.
Где враги, где друзья, где зло и где правда, все это скрылось из сознания народного, а остался там лишь хаос противоречий.
Чутко ловит деревня каждую весточку из центра, пережевывает ее, по-своему истолковывает.
Собираются мужики вечерами на завалинках, подпирающих серые, соломой крытые избы, задумчиво гладят свои бороды и ведут степенные разговоры о судьбах мира.
Газет не читают:
– «Известия», што там пишут – врут все! Нам Ванюшка Малютин, что намедни приехал из Москвы, справедливее все обскажет.
Слушают нелепые рассказы Ванюшек, приехавших из Москвы, и день ото дня напряженнее чего-то ждут. Ждут перемены…
– Как дальше жить будем? Лошадь 12–15 тыщ стоит, да и за той надо под самый Тамбов ехать. Коров, свиней, телят – поели. Совсем переводится скотина в деревне, – по тому держать ее нельзя: реквизуют. Земля родит плохо, да той нет: сколь народу из городов, с фабрик да с заводов понаехало – со всеми делиться надо!
И разговор вертится около Колчака и Деникина, около «зеленой» армии, двадцать два дня бьющейся с красными войсками «под самой под Москвой».
Внимательно прислушиваясь к этим, на первый взгляд, эпическим разговорам, вы невольно уловите общую мысль их, укладывающуюся в часто употребляемой теперь украинской пословице: «Пусть будут ехать гирше, да инше».
Дезертиров много в каждой деревне – «Што им делать? За коммунистов кровь проливать. Пущай сами за себя воюют..»
«Пущай сами» – это классический аргумент употребляется постоянно.
Если вы попытаетесь убеждать, что борьба с Деникиным и Колчаком необходима во имя интересов крестьянства, которое с приходом их лишится земли – лица собеседников моментально становятся непроницаемыми:
– Оно конешно. Нешто мы не понимаем? Ну, а только у нас до революции насчет земли лучше было. Получили мы на обчество, скажем, пятьсот десятин, а едоков в обчестве прибавилось теперича почитай с тыщу. Вот тут и смотри сам.
Таково массовое настроение деревни. Но в каждой деревне, в каждом селе есть, конечно, сознательный элемент, великолепно понимающий и политическую и экономическую обстановку, в которой находится Советская Россия.
Все усилия прилагают эти люди к тому, чтобы так или иначе рассеять все прогрессирующую реакционную в настроениях деревню, но в силу объективных условий немногое удается им сделать в этом отношении.
Публичные выступления, направленные на защиту принципов советской власти и борьбы за нее, не содержащие элемент критики действий власти – рассматриваются как «контрреволюция» и перед осмелившимися выступить встает вполне реальная угроза – оказаться в «черезвычайке».
Такие условия парализуют значение подобных попыток и создается поистине трагическое положение.
Может быть, прочитав последние строки, вы несколько усумнитесь: «Какие же теперь в деревне „черезвычайки“, когда даже уездные уничтожены декретом?»
Но декрет декретом, а жизнь идет своим чередом.
Недавно мне пришлось в одном из сел Тамбовской губернии познакомиться с очень молодым человеком, который при знакомстве, галантно раскланявшись, полностью назвал свой «титул»:
– Председатель волостной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем!
– ?!
Видя мое изумление, простодушный председатель счел нужным пояснить:
– Теперь, конечно, волостные и уездные комиссии не существуют, но партия, между прочим, наблюдает. Я назначен от партии.
Не оставила деревня незамеченным новое отношение центральной власти к трудовому крестьянству, но поняла это по-своему и использовала по-своему.
Если раньше деревня совершенно безучастно относилась ко всем выборам в сельские и волостные советы («Пущай сами кого хотят, того и выбирают»), то теперь она упорно отстаивает каждого своего кандидата, часто игнорируя все «разъяснения» волостных коммунистических ячеек.
О том, какое крупное значение придает деревня перемене курса политики в отношении крестьянства, видно хотя бы из того, что в деревне появились такие выражения: «Это было еще до Калинина» или «Это было еще при старых порядках».
Но и «новые порядки» не примирили деревню с господствующей партией: при всех перевыборах, если они протекали хоть в сколько-нибудь свободной обстановке, ни один коммунист не проходит в совет. Даже честные и дельные из них определенно бойкотируются. Настолько сильно в деревне недоброжелательство к коммунистической партии.
Пятиминутные «наскоки» на деревню «уполномоченных уполномоченного В.П.П.К.», конечно, не в состоянии разрешить существующих в деревне недоумений.
Один крестьянин, на мой вопрос: «Что новенького у вас?», так рассказал о приезде такого «уполномоченного от уполномоченного».
– Что новенького? Да вот намедни приезжал к нам товарищ Сабуров. Из центра… Говорили, будет разбирать наши дела деревенские, жалобы всякие от мужиков принимать. Ну, ждали его. Приехал… Минут пять прямо с тарантаса поговорил, да только его и видели…
– Что же он говорил?
– Да што говорил? «Мы, товарищи да вы, товарищи» – только и делов от него слышали. А жалобы-то, грит, ко мне в город приносите, штоб писменно. Ну, которые посля ходили с бумагами в город, да толку-то, знать, никакого не вышло. Уехал уже.
Чтоб устранить это глубокое непонимание, эту непримиримость деревни, нужны не слова и паллиативы, а такие действенные меры власти, которые в сознании крестьянских масс преломлялись бы надлежащим образом; нужно, чтобы крестьянство действительно получило наконец возможность не на словах, а на деле – строить свою жизнь и жизнь всей страны по-своему, чтобы всякая опека была снята окончательно.