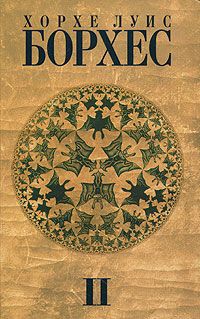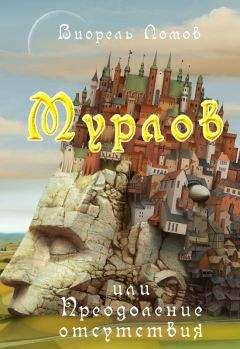которые, однако, так гармонировали с настроем души, что любой другой цвет, например, оранжевый или красный, ударял бы по нервам.
Мурлов вымучивал письмо. Письмо не получалось, точно промозглость и холод сковали не только природу, но и мысли, и чувства, и руки. «Как это я раньше столько писал? Ради чего? Ради кого? Перо к бумаге – и мысли потекли… Ужасно, сколько в мире всего происходит напрасно, бездарно и безвозвратно! Сколько жизней, как отсыревших спичек, стерлось, не вспыхнув, не осветив на миг скудный серый кубик пространства, загубивший их.
В любой конкретной науке развитие можно как-то аргументировать: в физике, например, процессы идут в более вероятном направлении, в биологии – в менее вероятном, и только в моей конкретной жизни – в самом невероятном, черт знает каком направлении.
За десять лет Мурлов лишь несколько раз видел Фаину, и то случайно – в толпе, в магазине, и не одну. А в последние пять лет он ее, кажется, вообще ни разу не видел. И почти забыл ее. Раз только представил, что они снова вместе, и поспешил заняться каким-то делом.
Фаина же пребывала все десять лет в перманентном состоянии увлеченности, но ни одна из них не принесла ей радости, какую испытала она от общения с Филологом и… да-да, с Мурловым. Это поняла она давно. «С ними, только с ними я могла быть счастлива, также как и они – со мной».
«Модальные глаголы не заменяют друг друга, в отличие от людей, – говорил Филолог. – То, что надо, может и не быть, а что возможно – совсем не обязательно сбудется». Фаина прогоняла навязчивые мысли каким-то ленивым однообразным усилием воли, которое делают только в силу того, что его надо делать, зная наперед, что оно к успеху не приведет, – это было похоже на то, как прогоняют назойливых мух с куска сыра.
Фаина взяла неделю за свой счет и полетела в Москву, к тетке. Та уехала в отпуск и просила хотя бы немного пожить у нее (потом Фаину должна была сменить подруга тети Шуры), поухаживать за капризным котом Франсуа и безымянными капризными цветами. Кота никому нельзя было оставить, так как он тяжело переживал и разлуку с хозяйкой, и перемену местожительства: отказывался от пищи и демонстративно гадил посреди зала.
В самолете Фаина читала «Мадам Бовари» и до слез восхищалась – нет, не Эммой, восхищалась языком романа. Флобер ли так написал или Любимов так чудесно перевел (надо будет почитать в оригинале), но фраза: «Он брал с подоконника Эммины башмачки, покрытые грязью свиданий, под его руками грязь превращалась в пыль, и он смотрел, как она медленно поднимается в луче солнца», – изумительная фраза. Здесь и двойной смысл, и возвышение низменного, и философия по поводу тщеты бытия, превращения его в пыль… «Это во мне от Филолога, во веки веков», – вздохнула Фаина, но уже без боли, как много лет назад.
Фаина и Мурлов столкнулись нос к носу в дверях Елисеевского. Оба раздраженно глянули друг на друга – мгновенный испуг и тут же вспыхнувшая радость осветила их лица. Встречные людские потоки разнесли их в разные стороны, как две щепки. Опомнившись, они стали продираться друг к другу.
– Уйдем отсюда, – сказал Мурлов, держа Фаину за руку, точно боялся снова потерять ее. – Уйдем отсюда! Уйдем скорей!
И они пошли, сами не зная куда, и оба молчали, глядели друг на друга влажными глазами и нервически улыбались, ничего не видя и не слыша вокруг.
– Фаина, – сказал наконец Мурлов, – где мы?
Уютная комнатка. Кресло, в котором можно забыться после работы, укутавшись шалью, и погрузиться в мысли, мысли, мысли… Роза алеет в вазе. Ей уже несколько дней, ее коснулось дыхание смерти, и она прекрасна своей последней красотой – той, быть может, которую имел в виду Проспер Мериме. Потемневшие лепестки набухли по краям и свернулись, как кровь. Увядшие цветы притягивают руку, притягивают взор, притягивают сердце. Возле такой розы хорошо сидеть и беседовать, коленями прижавшись друг к другу, как китайцы. И теплые руки лежат в теплых руках, и взгляды доверчиво слились, и так спокойно на душе, так спокойно, как не было спокойно никогда.
Время бежит, часы тикают, но время сейчас не разносит их в разные стороны, а соединяет. И они, как заведенные часы, тикают, тикают – ведут нескончаемый разговор. Кто говорит, о чем говорит – не поймешь. Говорят сразу оба, об одном и том же, и говорят одни и те же слова.
– Два дня мне нравятся в году.
– Хорошая строчка для стихотворения.
– Два дня мне нравятся в году…
– Когда с тобой я разговор веду.
– Когда мне рай с тобой в аду… Два дня мне нравятся в году. Я помню их. Я буду помнить их все время. Зеленая лужайка. Трава. Сколько травы! А солнце! Слушай, его не было целый год. Его не было десять лет! Куст крыжовника. Помнишь? Как квочка. А вокруг него, как цыплята, желтые одуванчики. А прозрачные вишни! Какие вишни! Они как губы! В солнечном свете холодные мягкие губы.
– Я помню, помню эти дни! Я помню, как плыли одуванчики по траве. Я помню вишни. Да-да, они как губы. Их так хочется срывать с ветки своими губами.
– Ты пишешь стихи? – спросила Фаина.
– Нет. Читаю. Вчера наткнулся на одно. Написал японец. Тысячу лет назад. Это судьба. Я ночь не спал и думал, что я – тот японец, что я написал это, может, так оно и было, и ночь тянулась, как тысяча лет. Это судьба. Это судьба, что я встретил сегодня тебя…
– А говоришь, не пишешь…
– И что характерно: когда молчишь – тоже не пишешь. Теперь, когда я наконец тебя увидел, меня тревожит мысль, что в давние те времена тебя я вовсе не любил, – на последнем слове голос Мурлова дрогнул.
– Господи! Господи! – шептала Фаина и плакала, уткнувшись Мурлову в колени.
А Мурлов гладил ее волосы и повторял:
– Не плачь, милая, не плачь. Это судьба. Это судьба. Я в Москве так случайно, что иначе, как судьба, это не назовешь.
Оба они истосковались по радушной беседе, в которой самоутверждение не главное, не надо никому ничего доказывать, которая льется сама собой, как прозрачный ручей, как тот ручей в далеких годах, в далеких горах… Оба они истосковались по молчанию, которое не тяготит друг друга, которое бывает не от недостатка добрых чувств, а от их избытка, в которых тонешь, как в теплом южном вечере.
Они боялись произнести только одно слово,