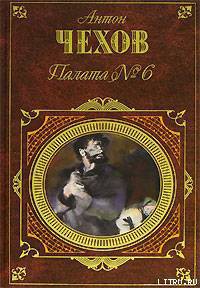Походив, по крайней мере, с два часа, я заметил, что от станции куда-то вправо от линии шли телеграфные столбы и через полторы-две версты оканчивались у белого каменного забора; рабочие сказали, что там контора, и наконец я сообразил, что мне нужно именно туда.
Это была очень старая, давно заброшенная усадьба. Забор из белого ноздреватого камня уже выветрился и обвалился местами, и на флигеле, который своею глухою стеной выходил в поле, крыша была ржавая, и на ней кое-где блестели латки из жести. В ворота был виден просторный двор, поросший бурьяном, и старый барский дом с жалюзи на окнах и с высокою крышей, рыжею от ржавчины. По сторонам дома, направо и налево, стояли два одинаковых флигеля; у одного окна были забиты досками, около другого, с открытыми окнами, висело на веревке белье и ходили телята. Последний телеграфный столб стоял во дворе, и проволока от него шла к окну того флигеля, который своею глухою стеной выходил в поле. Дверь была отворена, я вошел. За столом у телеграфного станка сидел какой-то господин с темною, кудрявою головой, в пиджаке из парусинки; он сурово, исподлобья поглядел на меня, но тотчас же улыбнулся и сказал:
– Здравствуй, маленькая польза!
Это был Иван Чепраков, мой товарищ по гимназии, которого исключили из второго класса за курение табаку. Мы вместе когда-то, в осеннее время, ловили щеглов, чижей и дубоносов и продавали их на базаре рано утром, когда еще наши родители спали. Мы подстерегали стайки перелетных скворцов и стреляли в них мелкою дробью, потом подбирали раненых, и одни у нас умирали в страшных мучениях (я до сих пор еще помню, как они ночью стонали у меня в клетке), других, которые выздоравливали, мы продавали и нагло божились при этом, что все это одни самцы. Как-то раз на базаре у меня остался один только скворец, которого я долго предлагал покупателям и наконец сбыл за копейку. «Все-таки маленькая польза!» – сказал я себе в утешение, пряча эту копейку, и с того времени уличные мальчишки и гимназисты прозвали меня маленькою пользой; да и теперь еще мальчишки и лавочники, случалось, дразнили меня так, хотя, кроме меня, уже никто не помнил, откуда произошло это прозвище.
Чепраков был не крепкого сложения: узкогрудый, сутулый, длинноногий. Галстук веревочкой, жилетки не было вовсе, а сапоги хуже моих – с кривыми каблуками. Он редко мигал глазами и имел стремительное выражение, будто собирался что-то схватить, и все суетился.
– Да ты постой, – говорил он, суетясь. – Да ты послушай!.. О чем бишь я только что говорил?
Мы разговорились. Я узнал, что имение, в котором я теперь находился, еще недавно принадлежало Чепраковым и только прошлою осенью перешло к инженеру Должикову, который полагал, что держать деньги в земле выгоднее, чем в бумагах, и уже купил в наших краях три порядочных имения с переводом долга; мать Чепракова при продаже выговорила себе право жить в одном из боковых флигелей еще два года и выпросила для сына место при конторе.
– Еще бы ему не покупать! – сказал Чепраков про инженера. – С одних подрядчиков дерет сколько! Со всех дерет!
Потом он повел меня обедать, решив суетливо, что жить я буду с ним вдвоем во флигеле, а столоваться у его матери.
– Она у меня скряга, – сказал он, – но дорого с тебя не возьмет.
В маленьких комнатах, где жила его мать, было очень тесно; все они, даже сени и передняя, были загромождены мебелью, которую после продажи имения перенесли сюда из большого дома; и мебель была все старинная, из красного дерева. Госпожа Чепракова, очень полная, пожилая дама, с косыми китайскими глазами, сидела у окна в большом кресле и вязала чулок. Приняла она меня церемонно.
– Это, мамаша, Полознев, – представил меня Чепраков. – Он будет служить тут.
– Вы дворянин? – спросила она странным, неприятным голосом; мне показалось, будто у нее в горле клокочет жир.
– Да, – ответил я.
– Садитесь.
Обед был плохой. Подавали только пирог с горьким творогом и молочный суп. Елена Никифоровна, хозяйка, все время как-то странно подмигивала то одним глазом, то другим. Она говорила, ела, но во всей ее фигуре было уже что-то мертвенное и даже как будто чувствовался запах трупа. Жизнь в ней едва теплилась, теплилось и сознание, что она – барыня-помещица, имевшая когда-то своих крепостных, что она – генеральша, которую прислуга обязана величать превосходительством; и когда эти жалкие остатки жизни вспыхивали в ней на мгновение, то она говорила сыну:
– Жан, ты не так держишь нож!
Или же говорила мне, тяжело переводя дух, с жеманством хозяйки, желающей занять гостя:
– А вы знаете, продали наше имение. Конечно, жаль, привыкли мы тут, но Должиков обещал сделать Жана начальником станции Дубечни, так что мы не уедем отсюда, будем жить тут на станции, а это все равно что в имении. Инженер такой добрый! Не находите ли вы, что он очень красив?
Еще недавно Чепраковы жили богато, но после смерти генерала все изменилось. Елена Никифоровна стала ссориться с соседями, стала судиться, недоплачивать приказчикам и рабочим; все боялась, как бы ее не ограбили – и в какие-нибудь десять лет Дубечня стала неузнаваемою.
Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглушенный бурьяном и кустарником. Я прошелся по террасе, еще крепкой и красивой; сквозь стеклянную дверь видна была комната с паркетным полом, должно быть, гостиная; старинное фортепиано, да на стенах гравюры в широких рамах из красного дерева – и больше ничего. От прежних цветников уцелели одни пионы и маки, которые поднимали из травы свои белые и ярко-красные головы; по дорожкам, вытягиваясь, мешая друг другу, росли молодые клены и вязы, уже ощипанные коровами. Было густо, и сад казался непроходимым, но это только вблизи дома, где еще стояли тополи, сосны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей, а дальше за ними сад расчищали для сенокоса, и тут уже не пáрило, паутина не лезла в рот и в глаза, подувал ветерок; чем дальше вглубь, тем просторнее, и уже росли на просторе вишни, сливы, раскидистые яблони, обезображенные подпорками и гангреной, и груши такие высокие, что даже не верилось, что это груши. Эту часть сада арендовали наши городские торговки, и сторожил ее от воров и скворцов мужик-дурачок, живший в шалаше.
Сад, все больше редея, переходя в настоящий луг, спускался к реке, поросшей зеленым камышом и ивняком; около мельничной плотины был плёс, глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломенною крышей, неистово квакали лягушки. На воде, гладкой как зеркало, изредка ходили круги да вздрагивали речные лилии, потревоженные веселою рыбой. По ту сторону речки находилась деревушка Дубечня. Тихий, голубой плёс манил к себе, обещая прохладу и покой. И теперь все это – и плёс, и мельница, и уютные берега принадлежали инженеру!
И вот началась моя новая служба. Я получал телеграммы и отправлял их дальше, писал разные ведомости и переписывал начисто требовательные записи, претензии и рапорты, которые присылались к нам в контору безграмотными десятниками и мастерами. Но большую часть дня я ничего не делал, а ходил по комнате, ожидая телеграмм, или сажал во флигеле мальчика, а сам уходил в сад и гулял, пока мальчик не прибегал сказать, что стучит аппарат. Обедал я у госпожи Чепраковой. Мясо подавали очень редко, блюда всё были молочные, а в среды и в пятницы – постные, и в эти дни подавались к столу розовые тарелки, которые назывались постными. Чепракова постоянно подмигивала – это была у нее такая привычка; и в ее присутствии мне всякий раз становилось не по себе.
Так как работы во флигеле не хватало и на одного, то Чепраков ничего не делал, а только спал или уходил с ружьем на плёс стрелять уток. По вечерам он напивался в деревне или на станции, и, перед тем как спать, смотрелся в зеркальце, и кричал:
– Здравствуй, Иван Чепраков!
Пьяный он был очень бледен и все потирал руки и смеялся, точно ржал: ги-ги-ги! Из озорства он раздевался донага и бегал по полю голый. Ел мух и говорил, что они кисленькие.