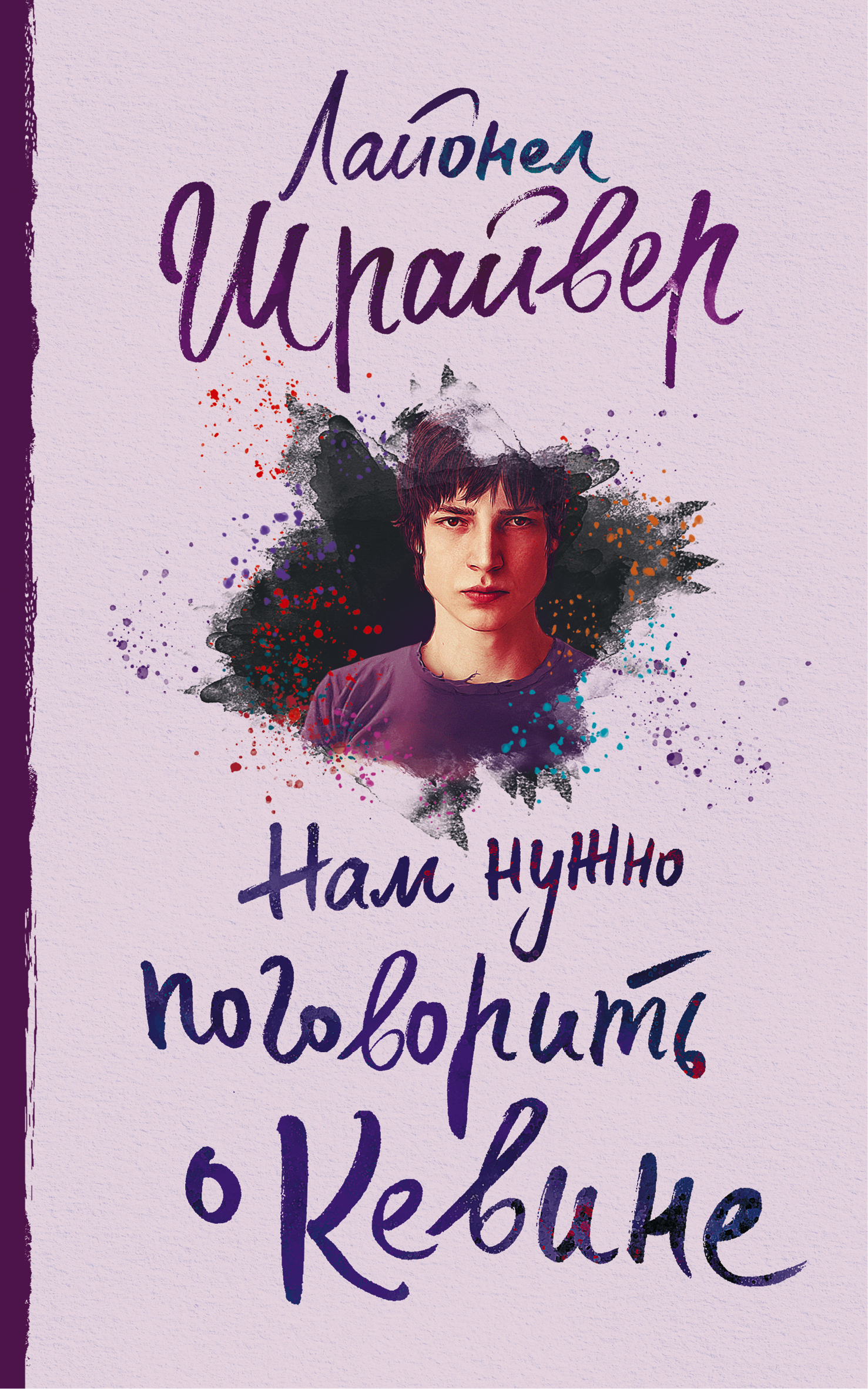разу даже не моргнул. Ему выделили полицейского, который должен был за ним присматривать; моя собственная роль этого не заслуживала – у меня уже появилось это ощущение, словно я инфицирована, заразна и нахожусь в карантине; мальчик не отвечал стоящему рядом человеку в форме, который пытался заинтересовать его разложенными в стеклянном шкафу моделями полицейских транспортных средств. Это была очаровательная коллекция, все модели были металлическими, некоторые очень старыми: фургоны, запряженные лошадьми повозки, мотоциклы, форды’49 из Филадельфии, Флориды, Лос-Анджелеса. С отеческой нежностью полицейский объяснял ему, что одна машина была большой редкостью, из тех времен, когда полицейские машины Нью-Йорка были бело-зелеными, а не синими. Джошуа безучастно смотрел прямо перед собой. Если он и осознавал мое присутствие, то, похоже, он не знал, кто я, а я вряд ли стала бы представляться сама. Я удивлялась, почему этого мальчика не отвезли в больницу, как остальных. Я не могла знать, что кровь, насквозь пропитавшая его одежду, ему не принадлежит.
Через несколько минут крупная, полная женщина влетела через дверь в приемную, налетела на Джошуа и одним движением подняла его на руки. «Джошуа!» – закричала она. Сначала эти дистрофичные запястья вяло свисали в ее крепких объятиях, но постепенно обхватили ее плечи. Рукава его рубашки оставили красные пятна на ее плаще цвета слоновой кости. Маленькое лицо зарылось в ее широкую шею. Я была тронута и одновременно испытывала зависть. Мне в таком воссоединении было отказано. Я так тебя люблю! Я так рада, так рада, что с тобой все нормально! Я же больше не испытывала облегчения и радости от того, что с нашим сыном все было нормально. После взгляда через стекло той полицейской машины меня стала терзать именно его кажущаяся нормальность.
Трио удалилось через внутреннюю дверь. Офицер за окошком стойки администратора меня игнорировал. У меня ум за разум заходил, но я, наверное, была благодарна за то, что у меня есть небольшое занятие в виде мобильника, который я теребила словно четки; набирая номера, я могла хоть чем-то себя занять. Ради хоть какого-то разнообразия я на некоторое время переключилась на попытки дозвониться домой, но мне все время отвечал автоответчик, и я давала отбой посреди этой ходульной записи, потому что мне был ненавистен звук собственного голоса. Я оставила на автоответчике три или четыре сообщения – первое сдержанное, последнее в слезах; мне еще предстояло вернуться домой, к этим записям. Очевидно, поняв, что мы оба задерживаемся, Роберт повел Селию в «Макдоналдс»: она любит их горячие яблочные пирожки. Почему же он не позвонил мне? У него есть номер моего мобильного! Неужели Роберт не слушал новости? О, я знаю: в «Макдоналдсе» обычно играет фоновая музыка, а в машине он не обязательно стал бы включать радио на время такой короткой поездки. Но неужели никто не упомянул об этом в очереди? Как кто-то в округе Роквелл мог сейчас говорить о чем-то другом?
К тому времени, как два офицера привели меня в голую маленькую комнату, чтобы взять показания, я уже настолько обезумела, что была с ними совсем не вежлива. Наверное, я к тому же показалась им тупой: я не понимала, зачем нужно связаться с нашим семейным адвокатом, если не возникало вопроса о том, что Кевин это совершил. И это был первый раз, когда кто-то счел нужным сказать его матери – пусть в самых общих чертах – всю правду о том, что именно он совершил. Приблизительное число погибших, которое буднично отбарабанил один из полицейских, позже окажется преувеличенным, но тогда у меня не было причин знать о том, что цифры потерь в таких случаях всегда поначалу завышены. Кроме того, какая разница, выносила ли ты сына, который убил только девять человек, а не тринадцать? А их вопросы я сочла до неприличия несущественными: как Кевин учился в школе, каким он был в то утро.
– Он был немного несдержанным с моим мужем! В остальном ничего особенного! Что я должна была делать? Сын нагрубил отцу, и мне звонить в полицию?
– Так, успокойтесь, миссис Качурян…
– Качадурян! – настаивала я. – Не могли бы вы, пожалуйста, правильно произносить мою фамилию?
Ну хорошо, согласились они.
– Значит, миссис Кадурян. Откуда ваш сын мог взять этот арбалет?
– Это был подарок на Рождество! Ох, я ведь говорила Франклину, что это ошибка, я ему говорила. Пожалуйста, можно я еще раз позвоню мужу?
Они разрешили, и после очередного бесплодного набора номера я сникла.
– Мне так жаль, – прошептала я. – Мне так жаль, мне так жаль. Я не хотела вам грубить, мне плевать на мою фамилию, я ненавижу мою фамилию. Я никогда больше не хочу ее слышать. Мне так жаль…
– Миссис Кадарян... – один из полицейских осторожно похлопал меня по плечу. – Может, нам стоит взять у вас полные показания в другой раз.
– Просто у меня есть дочь, маленькая, Селия, она дома, не могли бы вы…
– Я понимаю. Значит так, боюсь, Кевин должен будет остаться под арестом. Вы хотели бы поговорить с вашим сыном?
Представив это вкрадчивое, неумолимое выражение спокойствия, которое я увидела через стекло полицейской машины, я содрогнулась и закрыла руками лицо.
– Нет. Пожалуйста, нет, – взмолилась я, чувствуя себя ужасно малодушной. Наверное, я была похожа на Селию, которая слабым голосом умоляла не заставлять ее залезать в ванну, когда в ней, как в ловушке, все еще маячил этот темный, липкий ужас. – Пожалуйста, не заставляйте меня. Пожалуйста, не надо. Я не могу его видеть.
– Тогда сейчас вам, наверное, лучше всего будет поехать домой.
Я глупо уставилась на него. Я была настолько охвачена стыдом, что на полном серьезе считала, что они оставят меня за решеткой.
Может быть, просто для того, чтобы заполнить неловкую паузу, пока я молча смотрела на него, он мягко добавил:
– Как только мы получим ордер, нам придется обыскать ваш дом. Возможно, это будет завтра, но вы не волнуйтесь. Наши офицеры очень уважительно относятся к этому. Мы не будем переворачивать дом вверх дном.
– Да можете хоть сжечь этот дом, мне все равно, – сказала я. – Я его ненавижу. Я его всегда ненавидела…
Они переглянулись: истерика. И вывели меня за дверь.
Оказавшись на свободе – я не могла в это поверить – на парковке я безутешно побрела мимо своей машины, не признав ее в первый раз: все, что принадлежало моей теперь уже прошлой жизни, стало чужим. И я была поражена: как они могли просто так меня отпустить? Даже на этом раннем этапе я, должно быть, начала испытывать глубокую потребность в том, чтобы меня призвали к ответу, привлекли к ответственности. Мне пришлось удерживать себя от того, чтобы постучать в дверь участка и настойчиво просить администратора позволить мне провести ночь в камере. Разумеется, мое место именно там. Я была убеждена, что единственное ложе, на котором я смогу спокойно лежать в ту ночь, – дешевый комковатый матрас с шершавой казенной простыней, а единственная колыбельная, которая смогла бы меня убаюкать, – это шорох ботинок по бетону и отдаленное позвякивание ключей.
Однако, как только я нашла машину, я стала странно спокойной. Невозмутимой. Методичной. Как Кевин. Ключи. Фары. Ремень безопасности. Включить дворники, потому что моросил мелкий дождь. Мой разум отключился. Я прекратила говорить сама с собой. Я ехала домой очень медленно, тормозила на желтый свет и полностью останавливалась на перекрестках, хотя других машин на дороге не было. И когда я свернула на нашу длинную подъездную аллею и увидела, что в доме не горит свет, я ничего об этом не подумала. Я предпочла не думать.
Я припарковалась. Твоя машина была в гараже. Я двигалась очень медленно. Я выключила дворники и фары. Я заперла машину. Я положила ключи в свою египетскую сумочку. Я остановилась, чтобы придумать еще какие-то повседневные мелочи, которые мне нужно сделать, прежде чем войти в дом; я сняла с лобового стекла прилипший лист, подняла с пола в гараже твою скакалку и повесила ее на крючок.
Когда я зажгла свет в кухне, я подумала, как это непохоже на тебя – оставить на столе всю эту жирную посуду от завтрака. Сковородка, в которой ты поджаривал свою сосиску, вертикально торчала в сушилке, но та, в которой я делала французский тост, осталась на столешнице вместе с тарелками и стаканами из-под сока. Страницы «Таймс» были