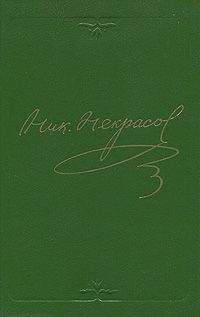Настанет суббота, и Перечумков пропадает с той самой минуты, как запрут магазин, до понедельника. Возвращался он прямо в магазин, весь в пуху, и хрипло и отрывисто отвечал на вопросы покупателя, а дождавшись, наконец, послеобеденной льготы, растягивался за прилавком и высыпался там под звеневшую еще в голове его песню:
Как по Питерской по дороженьке.
И слышались ему в этой песне и мерный топот тройки, и подзваниванье колокольчика, и заливанье дружных голосов разгульной молодежи, и подсвистыванье, и подщелкиванье… Кто слышал эту песню, когда тройка, под такт ей, мерной рысью бежит по хрупкому снегу, кто слышал, как смолкала эта песня и скрывалась из глаз тройка, пущенная во весь дух, и как потом лишь изредка свистнул да гаркнул вдали, так что дрогнут окрестности, — тот поймет, что происходило в голове приказчика, не высыпавшегося после воскресенья… Проснувшись, Харитон Сидорыч самым беспечным образом смеялся и над головною болью и над своими праздничными приключениями.
— Вот хоть бы на табак осталось! — говорил он, обращаясь к пустым своим карманам, — все фукнул! ха, ха, ха!..
Кирпичов кутил, приказчики кутили, редактор «Умственной пищи», бравший с Кирпичова хорошее жалованье, тоже кутил, — все кутило! Даже Граблин увлекся общим примером и стал покучивать.
Минувшее горе забывается скорее, чем минувшее счастье. Человек, оттаявший от холода жизни, при благоприятных обстоятельствах не ценит настоящего благополучия, о котором прежде едва мог мечтать.
Граблин, пригретый партикулярным местом, забыл ежедневно повторявшиеся в его жизни внутренние терзания, мелкие и незаметные для глаза постороннего наблюдателя, но которые неотразимо разрушают одно за другим все светлые верования души и доводят ее до того полумертвого состояния, в котором мир человеку кажется огромным комом грязи. Он забыл важность и силу денег. Доставив старухе-матери спокойную и довольную жизнь, не стоившую ему и третьей доли зарабатываемых денег, он распоряжался остальными довольно неблагоразумно. То он сошьет себе пальто в пятьсот рублей, и это оправдывалось необходимостью стать на солидную ногу, поставить себя в самостоятельное, независимое положение, по совету одного молодого литератора, который принял в нем участие, видя, что молодой человек далеко не получал того от Кирпичова, чего стоили его труды. То вдруг в кругу приятелей, одинаково любивших всякий напиток — от сотерна до рома голью, — являлась у него бутылка шампанского, не доставлявшая тем другого удовольствия, кроме случая потолковать после о фанфаронстве и расточительности молодого человека и приписать эту расточительность, по всем вероятиям, легкому приобретению денег на купеческой конторе, не совсем согласному с правилами чести. Не отказывал он себе также по воскресеньям в театре или маскараде, хотя после этих развлечений грустно ему было возвращаться домой и невыносимо больно подумать о целой неделе нескончаемого беспрерывого труда, о неизбежной необходимости умереть на это время для всего, что ни есть в мире, притиснувшись грудью к рабочему столику.
В одно воскресенье Граблин был в маскараде. Маскарад собственно не занимал его, и дамы — что касается до него — смело могли бы ходить и без масок: он не узнал бы ни одной, но маскарад этот был с лотереею аллегри. Молодой человек сначала равнодушно смотрел на пытателей счастья, прохаживаясь по разбросанным около заветных колес пустым билетам, разбросанным, может быть, с наружной небрежностью и тайным негодованием на несчастливую судьбу. Мало-помалу он начал заглядывать в чужие билеты, развертываемые дрожащими руками, прислушиваться к разговорам. Какой-то господин, стоявший у колеса, очень серьезно уверял, что он выигрывает в каждых пяти билетах, и тут же предлагал большое пари желающим поспорить с ним; возле господина стоял черкес и смотрел на него с благоговейным удивлением, готовый, казалось, воскликнуть: «велик Аллах!» У другого колеса Граблин собственными глазами видел, как какой-то низенький человек взял один билет и выиграл серебряный сервиз. У молодого человека завертелась мысль; не рискнуть ли и ему каким-нибудь десятком целковых — куда ни шло! «Ведь выигрывают же люди, — думал он, — и на один билет, а я возьму двадцать. Ведь если выиграю что-нибудь в 500–600 целковых, я получу в минуту почти то, за что работаю целый год». Он решительно оглянул, залу. Зала блестела. Музыка гремела какой-то торжественный марш. Девочки с привлекательными наружностями, поставленные у колес на возвышении и раздававшие билеты, казались нимфами, раздававшими кому радость, кому горе — по заслугам; но в лице их мечтатель читал столько неземной доброты, столько желания всем радости, одной радости, что он поспешно достал бумажник, вынул ассигнацию и протянул руку за билетами. Двадцать билетов развернуты: на одном из них стоял нумер; счастливец справился по лотерейному списку, лежавшему у колеса: он выиграл хлыстик. Грустная улыбка пробежала по его лицу, однако он пошел смотреть свой хлыстик. Глаза его долго скользили по всем вещам, эффектно расставленным в несколько ярусов, и он забыл о своем жалком хлыстике; невольно смотрел он на груды серебра, золотые табакерки, часы, зрительные трубки.
Молодой человек очутился опять у колеса. Еще развернуты сорок билетов — и брошены. Губы несчастливца дрожали от злости.
— Еще сорок билетов! — сказал он, протягивая руку с последними деньгами; и голос, и рука его дрожали; лицо выражало истомление, как после десяти часов сряду тяжелой работы. И эти сорок билетов разлетелись по полу — хоть бы хлыстик! Вдруг раздались вокруг него восклицания: «На один билет! серебряный сервиз! вот счастливец!» И опять перед Граблиным стояла низенькая фигурка, улыбалась и вертела в масляных руках билет, выигравший сервиз. Он оглянул залу. Зала блестела по-прежнему, только становилось более душно и жарко. Музыка, которой он решительно не слышал в продолжение лотерейной игры, теперь вдруг грянула и, казалось, разразилась хохотом. Сильно стучало в висках у молодого человека. Он боялся насмешливого взгляда, — хотя за ним никто не думал наблюдать, и, закинув голову, смотрел на музыкантов, на огромную люстру и, казалось, ничего так не желал в эту минуту, как если б и раек с музыкантами и люстра с грохотом рухнулись и раздавили под собой его, жалкого несчастливца… Но кто-то ударил его по плечу.
— А, здравствуй, — сказал Граблин, протягивая руку своему знакомцу.
— Что ты смотришь таким… будто наступили тебе на мозоль?
— Нет, ничего…
— Э, брат, хитришь? ведь я видел издали: ты брал билеты. Проиграл видно? а?
— Да, — отвечал Граблин, стараясь казаться равнодушным. — Нет, не совсем: выиграл хлыстик.
— Хлыстик! во-от… Да, впрочем, — ободрял приятель, — если б и не выиграл ничего, денег у тебя, слава богу! Я сам бы на твоем месте… А то есть, правда, депозитка, не менять же мне ее для лотереи… А сколько взял билетов?
— На пятьдесят целковых.
— Гм… нет, я так провел время хорошо, даже поужинал здесь, разумеется не на свои: знакомый попался… А то лотерея… не разберешь, кто выигрывает!
— Выигрывают, — заметил Граблин и рассказал о низеньком человеке, выигравшем сервиз на один билет.
— Горбатенький? — спросил его приятель.
— Да, немного.
— Смотрит обезьяной такой?
Приятель сделал рожу.
— Кажется… Без перчаток.
— Ну, он! это один кассир, родственник еще мне дальний, да не хочет и знать меня, а знает, что родственник; забыл, как без сапог ходил! Да бог с ним… Так за ним-то вздумал ты гоняться? Ему счастье! он и в прошлом году выиграл сервиз и еще что-то… поди с ним! Может быть, уж и руки у него такие кассирские: что зажмет в кулак — дрянь, а разожмет — выигрыш. Иль уж так родится иной, что если б он спал себе спокойно дома, и тогда у него был бы выигрыш… А ты вот, — продолжал он, взяв Граблина за пуговицу, — взял сто билетов, а… Да, правда, у тебя тоже выигрыш, — прибавил он, смеясь, — хлыстик? Один хлыстик? а жаль, что один; уж лучше бы два: чтобы так уж тебя можно было, как говорится, в два кнута…
И приятель захохотал. Граблин тоже засмеялся, и они разошлись.
Граблин поплелся домой пешком. На другой день благоразумный приятель с неразмененной депозиткой рассказывал своим товарищам о подозрительной расточительности Граблина, проигравшего пятьдесят целковых.
А Граблин, возвращаясь из маскарада, думал о судьбе своей игры и незаметно перешел к игре Кирпичова, который тоже, думал он, наконец дорежет себя кутежом, безалаберщиной и бесталанным журналом. С некоторого времени векселя уплачивались уже деньгами, поступавшими от иногородних корреспондентов на разные закупки; а это скоро остановит колесо, как бы шибко оно ни бежало. Кирпичов рассчитывал поправиться новыми изданиями, которые предполагал изготовить на новые векселя, и он мог это сделать, потому что настоящее положение дел его не было вполне известно торговым домам; было известно только, что «у Кирпичова идет шибко!», но книжные издания тоже более или менее сопряжены с риском, и успех той или другой книги не может быть рассчитан наверное, при всем знании современных интересов читающей публики; бывает, что дельная и, по-видимому, нужная для всех классов книга остается не проданною в убыток издателю, а книга пустая расходится в продаже быстро. В случае неудачи и этих вновь предполагаемых изданий Кирпичову уже не будет спасения. А теперь он может еще все поправить, согласив кредиторов переписать векселя и назначить более продолжительный, срок платежа по ним, на что кредиторы, конечно, волею или неволею, согласятся, зная последствия несостоятельности, всегда не выгодные для кредиторов.