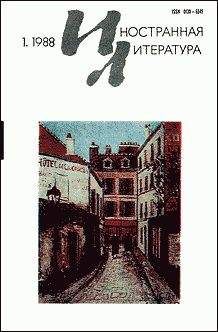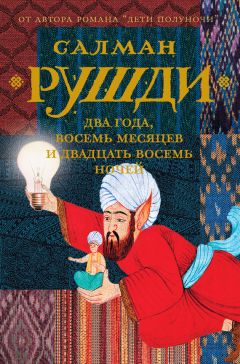рано. Я именно этого и хочу – чтобы она пошла за мной и спросила: почему я ушел так рано? Такой уж я, скажу я, такой уж я, вечно я не в состоянии удержать-то-чего-хочу-больше-всего-на-свете, ведь мне так редко достается то, о чем я мечтаю, что, получив, я отказываюсь верить, боюсь дотронуться и, сам того не понимая, отказываюсь. Например, телефон отключаешь? Например, отключаю телефон. Например, говоришь: «Слишком скоро, внезапно, поспешно», когда я ору: «Давай сейчас, чтоб тебя», говоришь «Может быть», когда я ору: «Я согласна на все», например, не приходишь в кино, хотя знаешь – знаешь наверняка, осел ты безмозглый, что я в тот вечер не могла туда не пойти? Да, скажу я, например, не являюсь, зная, что ты никогда меня не простишь. И что? Да ничего. Я каждый вечер прихожу сюда думать о том, что, видимо, потерял тебя, потому что каждый вечер кажется мне последним, и здесь я делаю лишь одно – сам не зная, что это делаю: молюсь, чтобы никогда не настал день, который я проведу без тебя. Я готов провести в этом парке тысячу ночей на морозе, на любых твоих условиях – все лучше, чем утратить тебя навсегда.
Двойные отрицания, будущее неопределенное, прошлое в сослагательном наклонении – да что это такое, Князь? Ничего это, ничего. Сплошной контрафакт из моей контрафактной жизни.
В парке Штрауса мне хочется одного: вспоминать свою первую ночь здесь, или вторую, или третью, или ту ночь, когда я вернулся и стоял, оглушенный, после нашего поцелуя, чувствовал, как в груди все вздымается каждый раз, стоит взгляду упасть на булочную, и я вспоминаю, как прижал ее тело к стеклу витрины и поцеловал ее, как бедра наши сомкнулись, повинуясь импульсу – мне тогда казалось, что ему я и следовал всю свою жизнь, хотя на деле я лишь репетировал его для Клары, все было лишь репетицией и отсрочкой. Хочешь, чтобы мы остались вместе, или это одна из тех тусклых сопливых дружб, которые в один прекрасный день перетекают в страсть, когда они слишком много выпили, скажи мне еще раз, сладкая, горькая, бессердечная, скажи еще раз, хочешь ли ты, чтобы время остановилось и для тебя? Я говорю понятно? Я – то, чего ты хочешь? Да. Пока не передумаешь? Я никогда не передумаю, но, если ты такого обо мне мнения, тогда я уже передумала – потому что ты все думаешь и не додумаешься.
Я постою и подумаю про волхвов с охваченными пламенем макушками, которые, возможно, сегодня еще появятся – ноги шаркают, уходят в землю, они говорят: нечего тебе тут делать, ты чего не ушел, ты тут зачем? Я тут думаю, вернуться ли мне назад или лучше остаться здесь. И что? Да вот не знаю. Ты чувствуешь раздвоенным сердцем, сердце твое – немой орган. Через пять лет, как оно было в фильме Ромера, ты столкнешься с ней в прибрежном европейском городке, она будет с детьми, или ты будешь с детьми, будешь смотреть, таращиться, тасовать колоду несбывшегося. А ты не изменился, скажет она. Ты тоже. По-прежнему Князь? Вроде бы да. А ты, Клара? Все та же. Все лежишь на дне? Все лежу на дне. Так ты не забыла? Я ничего не забыла. Я тоже. Ну? Ну.
Когда я достигну возраста своего отца, с воркотней в душе и единственной целомудренной любовью за душой, и буду стоять на балконе, думая про дегустации вин, про потушенные сигареты, летящие к земле, про вечеринки у соседей, которые всегда настоящие, – окажется ли, что я сумел это изжить, или оно превратится в неотступное сновидение – с того дня, когда оно завершилось, начавшись, до того, когда началось с завершения у какой-то там стены булочной в ста ярдах отсюда, в столетье отсюда, сто лет назад. От маленького парка в Берлине до парка Штрауса в Нью-Йорке. Газовые фонари столетней давности и нерожденный камнетес спустя сто лет отныне – между ними века. Неизмеримые.
Что же мне теперь делать? Стоять и ждать? Стоять и гадать? Что делать?
Молчание нарушил один из фонарных столбов в парке.
Ты ждешь совета? Ответа? Извинения?
Ступай обратно, произнес голос; если бы я мог вернуться обратно, если бы я мог.
Этот голос я узнал бы из миллионов.
И вот я дойду от парка Штрауса обратно до угла Сто Шестой улицы и Риверсайд-драйв, буду смотреть, как наверху гости прислоняются спинами к оконным стеклам, так же как и неделю назад, когда снаружи было холодно и их лица, озаренные светом свечей, лучились смехом и предвкушением, а в руках у всех были бокалы; некоторые – это угадывается – опираются на пианино, у которого певец с горловым голосом подзуживает всех петь рождественские колядки. И я даже поздороваюсь с Борисом, он меня уже запомнил, погляжу, как он засовывает руку в кабинку лифта, нажимает кнопку пентхауса, как и на прошлой неделе, и едва я шагну в квартиру, раздастся целый хор приветствий. Ну надо же, взял и вернулся, скажет Орла, сбегаю скажу Кларе. Нет, лучше я ей скажу, вызовется Пабло, она на тебя сердится, еще и за то, что ты прошлой ночью ее продинамил. Мы тут собрались в собор Святого Иоанна, пойдешь с нами? Ответить я не успею – мне протянут фужер с шампанским. Я узнаю запястье, твое запястье, твое запястье, милое, благословенное, богоданное, как-же-я-его-обожаю запястье. «Ist ein Traum, это мечта, – говорит она, – и только что наступил Новый год».
Свет и радость (исп.). – Здесь и далее примеч. пер., кроме оговоренных случаев.
Корова, которая смеется (фр.). Произносится «ваш ки ри».
Воскресные окопы (фр.).
Выздоровления (нем.).
Джон Китс, «Рука живая, теплая, что пылко…», пер. В. Потаповой. – Примеч. ред.
Кто такой Манкевич? (фр.)
Перевод Д. Щедровицкого.
Близняшки (ит.).
Прямой… обратный (лат.).
Жорж, три бокала вина, пожалуйста (фр.).
Так любезен… в теплицу (фр.).
Здесь: рад знакомству (фр.).
За моего отца (исп.).