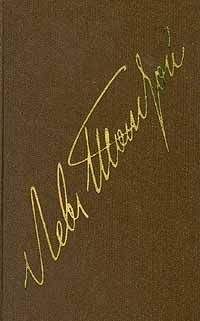«А еще, милое мое дитятко, голубок ты мой Петрушенька, выплакала я свои глазушки, о тебе сокрушаючись. Солнушко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил…» На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала:
— Так и будет.
Так и осталось в письме, но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, «защищая царя, отечество и веру православную». Так написал военный писарь.
Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь и раздала кусочки просвирок «добрым людям для поминания раба божия Петра».
Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти «любимого мужа, с которым» она «пожила только один годочек». Она жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь. И в своем вытье поминала «и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькой» и горько упрекала «Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее горькую, по чужим людям скитальщицу».
В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви.
Воронцов, Михаил Семенович*, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным военным, даже победителем Наполеона под Краоном. Ему в 51-м году было за семьдесят лет, но он еще был совсем свеж, бодро двигался и, главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и приятного ума, направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел большим богатством — и своим и своей жены, графини Браницкой, — и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил большую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма.
Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известие о выходе к русским Хаджи-Мурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было шесть часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера не откладывая и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу, человек тридцать, сидевшие около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупогончиками и белым крестом на шее. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся.
Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Орбельяни, сорокапятилетней, восточного склада, полной, высокой красавице, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазёль, приятельнице княгини. Доктор Андреевский, адъютанты в другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садящимся; метрдотель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски.
Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена, с генералом. Направо от него была его дама, красавица Орбельяни, налево — стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях, княжна-грузинка, не переставая улыбавшаяся.
— Excellentes, chère amie, — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. — Simon a eu de la chance[9].
И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом, поразительную новость, — для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно, — о том, что знаменитый, храбрейший помощник Шамиля Хаджи-Мурат передался русским и нынче-завтра будет привезен в Тифлис.
Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали.
— А вы, генерал, встречали этого Хаджи-Мурата? — спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетинистыми усами, когда князь перестал говорить.
— И не раз, княгиня.
И генерал рассказал про то, как Хаджи-Мурат в 43-м году, после взятия горцами Гергебиля, наткнулся на отряд генерала Пассека и как он, на их глазах почти, убил полковника Золотухина.
Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение.
Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи-Муратом.
— Ведь это он, — говорил генерал, — вы изволите помнить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке.
— Где? — переспросил Воронцов, щуря глаза.
Дело было в том, что храбрый генерал называл «выручкой» то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход, под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием, и потому если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же «выручка» прямо указывалось на то, что это был не блестящий подвиг, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, другие испуганно ожидали, что будет дальше; некоторые, улыбаясь, переглянулись.
Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил:
— На выручке, ваше сиятельство.
И раз заведенный на любимую тему, генерал подробно рассказал, как «этот Хаджи-Мурат так ловко разрезал отряд пополам, что, не приди нам на выручку, — он как будто с особенной любовью повторял слово «выручка», — тут бы все и остались, потому…»
Генерал не успел досказать все, потому что Манана Орбельяни, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на него, — и вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя, лежавшее у него на тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и даже вкуса.
Всем стало неловко, но неловкость положения исправил грузинский князь, очень глупый, но необыкновенно тонкий и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сторону княгини Воронцовой. Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджи-Муратом вдовы Ахмет хана Мехтулинского:
— Ночью вошел в селенье, схватил, что ему нужно было, и ускакал со всей партией.
— Зачем же ему нужна была именно женщина эта? — спросила княгиня.
— А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить, так вот он отомстил на вдове.
Княгиня перевела это по-французски своей старой приятельнице, графине Шуазёль, сидевшей подле грузинского князя.
— Quelle horreur![10] — сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой.
— О нет, — сказал Воронцов улыбаясь, — мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее.
— Да, за выкуп.
— Ну разумеется, но все-таки он благородно поступил.
Эти слова князя дали, тон дальнейшим рассказам про Хаджи-Мурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значения Хаджи-Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову.
— Удивительная смелость у этого человека. Замечательный человек.
— Как же, в сорок девятом году он среди бела дня ворвался в Темир-Хан-Шуру и разграбил лавки.
Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-Хан-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджи-Мурата.
Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи-Мурате. Все наперерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленных; но и на это было обычное возражение: