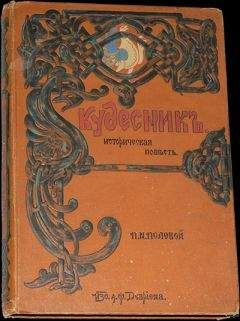Сенями и переходами, сплошь заставленными нескончаемым рядом дворцовых чинов, бояр, окольничих, князей и первостатейных вельмож, царица Наталья Кирилловна прошла прямо к терему царя Феодора. В то время, когда двое стряпчих усиленно и торопливо очищали ей дорогу через царскую переднюю, царица успела заметить, что все люди ее партии были тут налицо, а царевич зорко и внимательно всех оглядывавший, вдруг дернул мать за рукав и шепнул ей:
— Смотри-ка мама, вот тут и доктор Данила, который мне горло лечил.
Царица взглянула в указанную сторону и милостиво кивнула доктору, которому была обязана спасением своего сына.
Вот, наконец, и дверь опочивальни царской, наглухо запертая для всех и медленно отпирающаяся перед царицей Натальей Кирилловной, которая смело берется за ручку замка и вводит царевича в опочивальню царя Феодора.
В опочивальне было светло, занавеси окон были отдернуты; около постели царя были только две особы царской семьи: царевна Софья Алексеевна и юная царица Марфа Матвеевна. Первая, по-прежнему, сидела в своем кресле, в ногах царской постели, вторая стояла на коленях у изголовья и держа холодеющую руку царя в своих прекрасных руках, обливала ее слезами.
Когда царица Наталья Кирилловна приблизилась с сыном своим к постели царя, Софья Алексеевна поднялась со своего кресла, и обе женщины обменялись взглядами такой жгучей, такой непримиримой ненависти, что каждый сторонний наблюдатель, если бы он мог тут находиться, вчуже испугался бы…
«Не опоздали!» — говорил взгляд царевны.
«Знаю свое время и свои права!» — не менее ясно выражал взгляд царицы.
Эти красноречивые взгляды не помешали им однако же обменяться обычными поклонами и лобызаниями.
Царевич Петр, который, конечно, ничего не заметил, смотрел в это время на брата-царя, которого давно уже не видел, или лучше сказать, смотрел на ту тень, которая от царя еще оставалась… В полутьме тяжелых, полуспущенных занавесок широкой кровати, из-за крупных складок атласного одеяла, затерянный, утонувший в огромном пуховом изголовье, едва виднелся бледный измученный облик царя Феодора, с глубоко провалившимися закрытыми глазами, с заострившимся носом, с жидкими прядями волос, липнувшими ко лбу и щекам, увлаженным каплями холодного пота…
Царевич посмотрел и отвернулся с чувством того невольного страха и отвращения, которое внушает каждому живому существу наступающее торжество смерти…
По счастью, царевичу не пришлось над этим долго засматриваться… Дверь опочивальни широко раскрылась перед патриархом, который вступил в опочивальню со своим клиром. За клиром теснились бояре и вельможи… Немного спустя, раздалось тихое и стройное пение патриаршего хора. Начался тягостный для умирающего царя обряд соборования.
Ровно в четыре часа пополудни раздался заунывный благовест колокола с соборной колокольни, возвещавшей царствующему городу Москве, что царь Феодор «преставился»… К этому времени всех чинов люди Московского государства, по приказанию патриарха были уже собраны на площади перед церковью Спаса, находившейся внутри дворцовых построек. Вся толпа этих «чинов» была в весьма напряженном состоянии ожидания и внутреннего нескрываемого волнения. В разных углах площади шли вполголоса оживленные толки и переговоры… Вот, наконец, патриарх с архиереями и с первыми вельможами царского двора вышел на крыльцо, готовясь обратиться к народу с роковым вопросом… И вся толпа замерла и притаила дыхание.
— Православные христиане, всех чинов люди Московского государства! — возгласил патриарх. — Царь Феодор преставился и переселился в горняя. Два осталось по нем брата-царевича — Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич. Кому же из двоих царевичей быть на царстве?
— Петру Алексеевичу! — крикнула толпа. — Петру Алексеевичу!
— Иоанну Алексеевичу! — раздалось несколько голосов где-то в углу площади.
— Петру, Петру Алексеевичу! — вырвалось опять у всей толпы, как бы из одной груди — и в этом общем, дружном возгласе бесследно замерли голоса немногих крикунов.
Патриарх выждал, когда крики толпы замолкли и возгласил:
— Православные! Иду во дворец и благословлю царевича Петра Алексеевича на царство.
— Здравия, здравия царю Петру Алексеевичу! Многия лета царю Петру Алексеевичу! — загремела толпа, и крики ее перелетели на площадь перед дворцом и были повторены десятками тысяч столпившегося там народа.
На другой день — день похорон царя Феодора — в кружале «Труба» у Никольского крестца опять стоял дым коромыслом. Толпа была еще теснее, чем когда-либо, давка еще сильнее и чувствительнее… Двери не стояли на петлях, и народ не смолкал в речах. В одном углу шумели стрельцы — и говор шел о их буйствах за последние дни.
— Выборного нашего — понимаешь, аль нет? — нашего выборного да велел боярин, безмозглая башка, перед приказною избой кнутом высечь! А? Каково тебе покажется?
— Ну, а вы что же? — разве олухами стояли?
— Вот ты послушай, как было дело… выборного и вывели приказные сторожи, и стали уж к кобыле ремнями прикручивать, а он, с горя да с досады, и крикни во все горло: — «Братцы! Ведь я не самовольно, не самодумно, а по вашему приговору подал челобитную властям? За что же теперича принять должен поругание?..» Ну, тут в нас сердце-то и заговорило… Разом крикнули: — «Вырывай его, братцы! Бей приказных сторожей!» — и пошла потеха! Сторожей-то всех смяли, сбили, товарища от кобылы отвязали, а дьяк, подобрав полы кафтана, зайцем бежал… Тем только свою шкуру спас…
— Эки дела! И неужель это все вам даром с рук сойдет?
— Да это что! — Мы теперь царю челобитье подали, чтобы нам всех полковников-грабителей головою выдали! Всех на правеж поставим, выбьем из них наши кровные гроши!
— Ну, дела! Дай вам Бог на них шеи не сломать.
— Чего там — сломать? Что они с нами сделают?.. Мы своего закона требуем, вот! Отдай нам наше — чужого не просим!
В другом углу шел говор между весьма пестрою массой постоянных посетителей «Трубы» о том, что в тот день происходило на похоронах царя Феодора.
— То есть, братцы мои, — рассказывал старый посадский человек — и не видано у нас на Московском государстве, и не слыхано. Уж я ли на своем веку чудес не видал: при двух царях жил, при третьем царе Феодоре, а такого чуда не видывал! Царевна Софья Алексеевна, теремная затворница, за гробом брата-царя пеша шла, за гроб держалася, да как убивалася!
— Да ведь им соборами из теремов выходить не положено!?
— Ну, собор соборами — а она вышла! И смотреть было куда как трогательно, как она слезами обливается, да причитает, да голосом ведет, да во весь народ так и сказывает: «отошел брат Феодор от сего света нежданно-негаданно, отравили его враги зложелатели! Старший брат наш Иван в цари не избран, и остались мы без матушки, без батюшки, без братца-царя сиротами горе-горькими»…
— Неужто так и сказывала что «отравили»?
— Я ж тебе говорю — своими ушами слышал!
Та же басня об отравлении царя (весьма обычная в то время и постоянно появлявшаяся в народных толках после каждой кончины царя или царицы) разрабатывалась и в другом дальнем углу того же кружка, где знакомый наш «дохтурский холоп» Прошка собрал около себя тесный и многочисленный кружок любознательных слушателей.
— Уж как же не отравили?! Это кто мне-то станет сказывать? Я сам видел, как он в ступках всякие зелья-то растирал!.. И то посудите: царь Феодор этого самого дохтура Данилу от себя прогнал; взял себе дохтура Ягана — и все ничего себе, жив да здоров… А как этого Данилу вернул, так через три недели Богу душу и отдал!
— Скажи на милость! Вот оно, какие дела! — раздавались восклицания около Прошки.
— А власти-то что же? Чего оне смотрят? — поднялись вопросы.
— Власти-то хотели было его изловить, особливо как он тут в опалу-то впал, мне и поручали через верных людей: добудь, мол, ты нам от него сушеных, либо моченых змей и иных гадов, так мы его к суду и розыску притянем. Я и взялся: ладно, мол, добуду! Ан что же вышло?
И рассказчик, для большего внушения, примолк и откинулся назад, многозначительно поглядывая на слушателей.
— Ну, что же? Что? Сказывай!
— А вот что! Сунулся я этта один раз, а в его комнату дверь на ключе. А у меня есть такой ключ, что к его двери подходит; я за тем ключом сбегал, и только стал было на крылечко подниматься, как что-то меня по голове щелк! Я и полетел с лестницы кубарем… И очнулся уж только под вечер: лежу в клети, по рукам по ногам связан, а тело у меня словно разбитое — все болит.
— Чудно, коли правда!
— Статься может — коли он точно кудесник. Ведь они какую мороку на людей напущают!
— Как же не кудесник? — горячо выступил опять Прошка. — Разве не слыхали, как он царя Петра нынешнею зимой лечил?