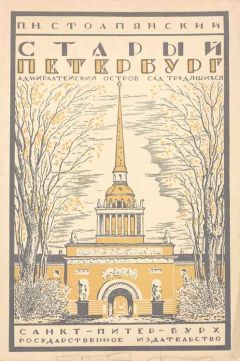В заключение хочется сказать о некоторых недостатках последних книг эпопеи. Ауэзов - великолепный художник, когда он описывает ночную заснеженную степь, дикие табуны коней, в ужасе несущихся неведомо куда, единоборство человека с волком, когда пишет, как пахнет и звенит степь, это чувствуешь, видишь воочию. Но есть страницы, где автор вдруг, словно утомясь, не находя нужных слов, бросает кисть художника и переходит к скороговорке хроникера. Мы уже говорили об одном из самых драматических моментов жизни Абая, когда враги решили убить поэта. Продолжаем прерванную цитату.
"...Грузный Абай не успел подняться, как на него градом посыпались удары. Но среди злодеев нашлось несколько человек, которые, увидев, что Абая хотят забить насмерть, ужаснулись и пожалели поэта - они нарочно падали на него, стараясь прикрыть от ударов своим телом. И таких оказалось несколько человек.
...Окруженный коварными врагами, способными на любое злодеяние, Абай ждал от них всякой мерзости и полагался только на свою судьбу. До сегодняшнего дня она его еще миловала, а вот сегодня случилось нечто более страшное, нежели сама смерть. Удары, нанесенные поэту по голове, кровавые раны, иссеченное нагайкой лицо - эти следы волчьих зубов были оскорбительны не только для честного сына казахского народа, родившегося раньше времени, но и для чести и совести всех казахов".
Как хотите, здесь все неточно. Картина избиения Абая дана чисто внешне. Кто эти злодеи, которые вдруг своим телом стали прикрывать того, кого они пришли убивать? Почему они это сделали? И что это за ярлык: "честный сын казахского народа, родившийся раньше своего времени"? Нужно ли эту глубоко трагическую сцену воспроизводить с помощью характеристик, взятых из произведений совершенно иного литературного ряда?
Но дальше. Абай оскорблен, растоптан. Он хочет бросить родной аул, седлает коня и мчится неизвестно куда. И вот что происходит:
"Исхак и Шубар, понукая своих коней... с двух сторон подлетели к Абаю.
- Агатай, Аба-ага, куда едешь? - умоляюще завопил Шубар, соскакивая с коня и хватая поводья серого иноходца.
- Отпусти, отойди! - крикнул Абай, с отвращением глядя на смертельно бледное лицо Шубара.
...Теперь и Исхак взял под уздцы лошадь Абая.
- Успокойся, Абай, - сказал он тихо без всякого притворства, и по голосу можно было почувствовать, как он по-настоящему мучается, - я только перед отъездом узнал, что вдова Абиша, несчастная Магиш, гаснет от горя, она просит тебя принять ее последний вздох. Неужели ты уедешь, не попрощавшись с ней? Ведь она тоже твое дитя.
Услышав эти слова, Абай растерялся.
- Вот кто страдает еще больше меня! - воскликнул он. - Бедняжка моя, как я тебя забыл! - И Абай повернул коня".
Писать так - значит не показывать, а декларировать. Слишком поспешен и прост отъезд, поэтому и возвращение дается чрезмерно легко. Но ведь Ауэзов знает, что это не так, что не ради умирающей невестки вернулся Абай, что он не мог не вернуться. Вообще вся эта сцена скорее беллетристична, чем художественна, в ней довольно заметен налет сентиментальности. Она как будто вырвана из какой-то мелодраматической повести и ощущается в романе как совершенно инородная,
Мы приводили рассуждения Абая о движущих силах истории и, каемся, тоже считаем, что здесь автор изменил себе, сделав своего героя непосредственным рупором своих социально-политических представлений. Таких страниц немного, но корень их, по-моему, один и тот же. Большой художник Ауэзов вдруг непонятно почему начинает сомневаться в своих способностях прямо, ненавязчиво и правдиво раскрыть всю сложность трагедии своего героя. Ему кажется что он что-то недорисовал, что он недостаточно высоко поднял Абая, не растолковал по-настоящему его значение и величие, - и тогда он отклоняется от художественной правды в сторону правды моралистической, дает плоскостное, одностороннее, однокрасочное толкование поступков и чувств своего героя.
Может быть, наиболее важным недостатком всего произведения является то, что Ауэзов так и не создал в эпопее хотя бы один полнокровный и жизненно достоверный образ кого-то из русских друзей Абая. Бледные тени, похожие друг на друга, с одной и той же психологией, речами и поступками, проходят по страницам романа и тихо рассеиваются, не оставляя и следа в памяти читателя. И остается непонятным, что же именно потянуло страстного, умного, свободолюбивого Абая к этим скучнейшим людям с их штампованной речью и вялой мыслью?
"Абай жадно расспрашивал друга... Узнав о том, что убийство царя было следствием широкого общественного движения против самодержавия, он пришел к твердому убеждению, что русское общество, вслед за своими лучшими людьми, неудержимо стремится к революции. Михайлов еще больше вырос в глазах Абая и казался ему теперь особенно близким и дорогим. Абай забрасывал его вопросами, стараясь лучше уяснить себе то, что уже слышал от него, и разрешить новые недоумения".
Прошло несколько дней...
"Абай жадно расспрашивал Михайлова, как и когда зародилась в России революционная мысль. Михайлов рассказывал ему об истоках борьбы против самодержавия, говорил о Пушкине, Белинском, Герцене, о новом подъеме революционного движения, вызванном Чернышевским. О нем он отзывался с особой теплотой и уважением, и Абай решил, что именно Чернышевский был учителем его друга".
Автор пишет, что "разговоры день ото дня становились все интереснее". Как хотите, я в это не могу поверить.
Но это все авторский пересказ. А вот как говорит сам герой, революционер Михайлов:
"Развитие народного сознания, просвещение - это путь к той же великой цели, иначе народное восстание превратится в мятеж, а не в революцию".
Перелистаем почти тысячу страниц, откроем второй том - и опять раздастся тот же самый голос, также монотонно и дидактически будет поучать Абая.
"Если этот коварный и сильный враг получит оглушительный удар, потерпит военное поражение, он растеряется, будет ослаблен, А силы революции вследствие этого возрастут, получат реальную возможность действовать. Если же царизм выиграет войну, окрепнет, тогда наступит полный разгул реакции. Тогда революции уже не поднять головы, она будет отброшена на много лет".
Только говорит это уж не Михайлов, а Павлов.
А вот вывод:
"Радостная весть, принесенная Павловым, предстала в сердце поэта в образе юной, золотой зари, забрезжившей у края ночи.
С живой признательностью к другу ощутил Абаи, как молодо встрепенулось его омраченное сердце. Посланцем будущего пришел к нему Павлов, и Абаю казалось, что он уже слышит шаги идущего к нему навстречу нового человека, хозяина неведомых могучих сил".
Очень красиво и вполне правильно! Но ведь изображать Абая так - это тоже идти по линии наименьшего сопротивления. И не то, что таких разговоров не могло быть, нет! Они, конечно, были - такие, когда оба собеседника, горячась и перебивая друг друга, делятся отнюдь не литературными цитатами, а всем увиденным и пережитым. Но именно это увиденное и отсутствует здесь. А то, что есть, никак не дает основания поверить, что эти самые беседы и сформировали мировоззрение Абая.
Закрывая второй том эпопеи, хочется пожелать большому художнику Ауэзову, чтобы он больше верил своему таланту и не прибегал к пересказу того, что он обязан показать воочию.
Именно тогда исчезнут в его романе бледные страницы, и фигура Абая предстанет перед читателем во всей полноте жизненной и художественной достоверности.
О ГРИНЕ
В 1930 году после угарного закрытия тех курсов, где я учился (Высшие государственные литературные курсы - сокращенно ВГЛК), нас, оставшихся за бортом, послали в профсоюз печатников. А профсоюзные деятели, в свою очередь, послали нас в издательства, на предмет не то стажировки, не то производственной экспертизы: если, мол, не выгонят - значит годен. Я попал в такое акционерное издательство "Безбожник". Там у кого-то возникла блестящая мысль: надо издать литературный сборник рассказов видных современных писателей на антирелигиозную тему. Выбор участников этого сборника был предоставлен моей инициативе. Так я сначала очутился у В. Кина, а потом у Александра Степановича. Кто-то - уж не помню кто - дал мне его телефон в гостинице. Я позвонил, поговорил с Ниной Николаевной и от нее узнал, что Грин будет сегодня во столько-то в доме Герцена. Столовая располагалась в ту пору - дело летнее - на дворе под брезентовыми тентами. Кормили по карточкам. Там, под этим тентом, я и увидел Александра Степановича. Я знал его по портретам в библиотечке "Огонька" и сборника автобиографий, выпущенных издательством "Современные проблемы". Он оказался очень похожим на эти портреты, но желтизна, худоба и резкая, прямая морщинистость его лица вносила в этот знакомый образ что-то совершенно новое. Выражение "лицо помятое, как бумажный рубль", употребленное где-то Александром Степановичем, очень хорошо схватывает эту черту его внешности. А вообще он мне напомнил не то уездного учителя, не то землемера. Я подошел, назвался. Первый вопрос его был: "У вас нет папирос?" - папирос в то время в Москве не было, их тоже давали по спискам. Папирос не оказалось, мы приступили к разговору. Я сказал ему, что мне нужно от него. Он меня выслушал и сказал, что рассказа у него сейчас такого нет, но вот он пишет "Автобиографическую повесть", ее предложить он может. Я ему стал объяснять, что нужна не повесть, а антирелигиозное произведение, которое бы показывало во всей своей неприглядности... Он опять меня выслушал до конца и сказал, что рассказа у него нет, но вот если издательство пожелает повесть, то он ее может быстренько представить. Я возразил ему, что сборник имеет определенную целевую установку и вот очень было бы хорошо, если бы он дал что-нибудь похожее на рассказы из последнего сборника "Огонь и вода". Он спросил меня, а понравился ли мне этот сборник, - я ответил, что очень - сжатость, четкость, драматичность этих рассказов мне напоминает новеллы Эдгара По или Амбруаза Бирса. Тут он слегка вышел из себя и даже повысил голос. "Господи, - сказал он горестно, - и что это за манера у молодых все со всем сравнивать. Жанр там иной, в этом вы правы, но Эдгар тут совсем ни при чем". Он очень горячо произнес эти слова, - видно было, что этот Эдгар изрядно перегрыз ему горло. Опять заговорили об антирелигиозном сборнике, и тут ему вдруг это надоело. Он сказал: "Вот что, молодой человек, - я верю в Бога". Я страшно замешался, зашелся и стал извиняться. "Ну вот, - сказал Грин очень добродушно, - это-то зачем? Лучше извинитесь перед собой за то, что вы неверующий. Хотя это пройдет, конечно. Скоро пройдет". Подошла Нина Николаевна, и Грин сказал так же добро душно и насмешливо: "Вот посмотри юного безбожника". И Нина Николаевна ответила: "Да, мы с ним уже разговаривали утром". Тут я нашел какой-то удобный момент и смылся. "Так слушайте, - сказал мне Грин на прощанье. - Повесть у меня есть, и если нужен небольшой отрывок, то, пожалуйста, я сделаю! - и еще прибавил: - Только, пожалуйста, небольшой".