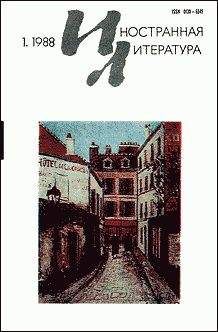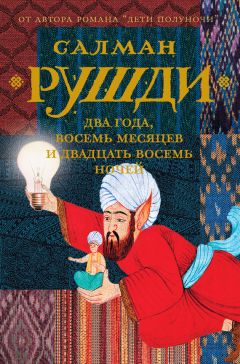пальцем и языком.
Усугублял ситуацию стыд. Чем я могу рассеять этот позор – тем, что я всего лишь терзающаяся человеческая плоть? Я попытался утешиться, изобретая в голове утешительные банальности – что ты и есть твое тело, что твое тело знает тебя лучше тебя самого, что выставить все напоказ честнее, чем застилать завесой из слов, что все это – обращение к самой сути. Только не было сил в это поверить.
А может, все оказалось сложнее, чем я думал. Дело в том, что какая-то часть моей души упивалась возможностью показать ей, из чего я свинчен и как легко эту конструкцию разобрать, – трепетная радость от того, что я полностью обнажил перед ней свою сущность, раскрылся, точно учебник анатомии, где один за другим поднимаешь покровы кальки, чтобы разглядеть цвет пожара в моих внутренностях и тихой истерики, свернувшейся клубком возле известных стыдных органов, удовольствие от моего стыда, мелкого, нелепого, перепуганного стыда – стыда, который надеваешь как маску, изо всех сил убеждаешь себя в его реальности и даже пытаешься превозмочь, хотя на самом деле оставил его, как на нудистском пляже, в шкафчике гардероба вместе с бумажником и часами.
Я попытался что-то пробормотать, чтобы скрыть смятение. Однако, подобно оленю у Овидия, пребыл безгласен – ибо сознавал, что вырвется только нечто среднее между хриплым клекотом или жалким шепотом и сделает мое положение еще нелицеприятнее, а потому сделал вид, что лишился голоса. Хотелось застонать. Хотелось, чтобы мы застонали вместе, а потом – стон, стон, стон, будто мы стали оленем и оленихой, что стонут в унисон под небом зимним студеным, где уже вовек не расставаться влюбленным.
Итак, вот ее кусочек хлеба. А вот он я, пытаюсь показать, что хлеб мне совсем не нужен, со мной и раньше такое бывало, я справлюсь, через минутку, сейчас, секундочку, главное – не надо таращиться, чтобы я не потерял лицо, – раненый боец сам промывает рану и накладывает швы, так-то!
Но она сидела, подобно бдительной сиделке на почасовой оплате – не уйдет, пока пациент не проглотит последнюю прописанную врачом пилюлю.
– Вот, возьми хлеб, – сказала она. – И подержи во рту, авось поможет.
Я – Клара, милосердная.
Я взял его, как порою берут носовой платок, без сопротивления, без гордыни, ибо знал – и именно это скрывалось за моей вымученной улыбкой, – что, вопреки своей воле, вопреки всем раскладам, вопреки всем объяснениям, подошел к обрыву столь близко, что теперь осталась одна забота: сделать так, чтобы спазм, который того и гляди вырвется из горла, не оказался рыданием.
Наконец я проглотил хлеб. Она молча следила за движениями моего кадыка.
Потом она повернулась, посмотрела в окно. Она напоминала мне человека, который считает тебе пульс, глядя в сторону, отсчитывает секунды с отрешенным видом. Я не знал, что делать, и потому повернулся тоже и уставился на Гудзон; плечи наши соприкасались – мы понимали, что это безобидный пустяк, и часть моей души так и рвалась показать, что молчание – самое обычное дело между посторонними людьми, которые познакомились на вечеринке и теперь нуждаются в передышке. Мы ничего не сказали по поводу вида, по поводу знакомых и не знакомых ей людей в комнате, по поводу огоньков, мигавших за рекой в Нью-Джерси, по поводу скорбных льдин, старательно сплавлявшихся по течению, будто разбросанное стадо овечек, пастухом при котором – стоящая на приколе баржа, что провожает их светом бдительного прожектора.
Снаружи, на Риверсайд-драйв, стояли в озерах света одинокие фонарные столбы, блестел снег – они были похожи на потерявшийся хор из греческой трагедии, у каждого застывшего чародея на голове сноп пламени. Мы слишком далеко, казалось, говорили они, так что ничего не слышим, но мы знаем и всегда знали про вас.
Она сказала, что любит свежий воздух. Чуть приоткрыла балконную дверь, в комнату вползла студеная струйка. А она шагнула на оказавшийся очень просторным балкон и тут же закурила сигарету. Я шагнул следом. Курю ли я? Я сделал утвердительный жест, а потом вспомнил, что примерно в момент рождения младенца, которому полгода да неделя от роду, дал зарок бросить. Поспешно объяснил. Она извинилась и сказала: никогда больше не станет мне предлагать. Я принялся гадать, содержит ли «никогда больше» добрые предзнаменования, но решил не выискивать скрытых смыслов в каждой ее фразе.
– Я их называю тайными агентами.
– Почему?
– В кино все тайные агенты курят.
– Значит ли это, что у тебя много тайн?
– Это бесцеремонно.
Какой же я глупец!
Она изобразила послевоенного агента, прикуривающего на ходу в темном мощеном переулке старой Вены.
Снаружи над городом висела бледная серебристая дымка. Снегопад не прекращался весь вечер. Она стояла рядом с перилами, двигала ногой, мечтательно разгребала снег замшевой туфелькой, тихо сбрасывала его с кромки. Я смотрел, как снежинки разлетаются по ветру.
Мне нравился этот жест: туфелька, замша, снег, кромка – все это делалось рассеянно, с сигаретой в руке.
Я раньше и не догадывался, что есть особая красота в том, чтобы шагнуть на свежий снег и оставить свои следы. Я всегда пытался избегать снега, холил свою обувь.
С этой высоты багряно-серебристый город казался эфемерным, далеким, потусторонним – зачарованное королевство, сияющие шпили которого молча вздымаются сквозь дымку зимних сумерек, чтобы вступить в беседу со звездами. Я смотрел на свежие борозды от шин на Риверсайд-драйв, на одинокие фонарные столбы со снопами пламени на головах, на автобус, что ковылял сквозь снег – пробрался через перекресток Риверсайд и Сто Двенадцатой улицы и побрел дальше, – сугробы на сутулых плечах, пустая стигийская лодчонка, уходящая к незримым краям и целям. Я, как и Клара, говорил он, доставлю туда, куда ты и не чаял добраться.
Официант сдвинул в сторону балконную дверь и осведомился, не хотим ли мы чего-нибудь выпить. Заметив у него на подносе «Кровавую Мэри», Клара тут же объявила, что будет ее. Официант не успел ничего возразить, а она уже схватила бокал с подноса. Я – Клара. Я всё хватаю. Цвет напитка совпадал с цветом ее блузки. А потом она поставила бокал с широким ободком на балюстраду, закопав основание и часть тонкого конуса в снег – то ли чтобы охладить, то ли чтобы его не перевернуло порывом ветра. Докурив, она загасила окурок носком туфли, а потом аккуратно смахнула его с края, как раньше смахивала снег. Я знал, что этот миг не забуду никогда. Туфельки, бокал, балкон, льдины, плывущие по Гудзону, автобус, ковыляющий по Риверсайд-драйв. О, не шуми, Гудзон,