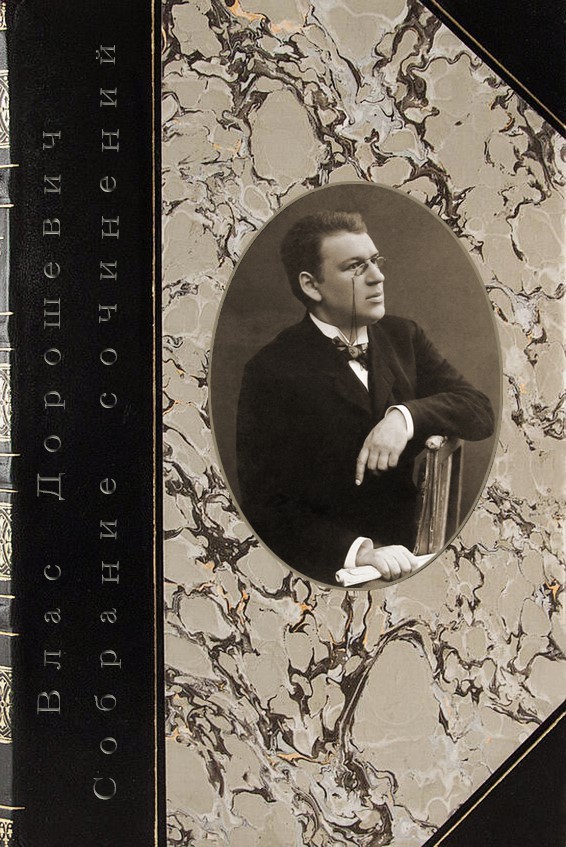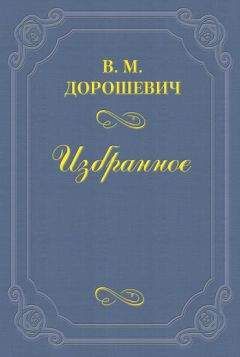тётушка. Матушки, дядюшки, нянюшки! Это к гимназии не относится!
Его голос звучал сухо, раздражительно, насмешливо.
Но, вероятно, я был очень несчастен со своим рассказом, в котором Цезарь перепутывался с моей. матушкой и латинские глаголы — с семейными обстоятельствами. Или, может быть, ему просто не хотелось казнить в своей квартире.
Он подошёл к столу, нашёл мою тетрадку, переправил единицу на двойку и сказал:
— Я попрошу, чтоб вам дали переэкзаменовку.
Переэкзаменовку надо было держать у другого латиниста, знаменитости, составителя учебников, принятых во всей России. Кажется, незнание его грамматики он принимал за личное оскорбление.
Переэкзаменовка была сейчас же, до каникул, и у меня мороз подрал по коже, когда я очутился под насмешливым, недружелюбным взглядом немца.
— Это вы тот, который не смог написать ни единого слова? — встретил меня он, неправильно выговаривая русские слова. — Мы теперь посмотрим, сможете ли вы ответить одно слово изустно!
И он задавал мне самые трудные вопросы и саркастически улыбался, когда я заминался:
— Ну, ну! Так ли же вы говорите, как пишете?
У меня голова шла крутом, какое-то чернильное пятно на столе почему-то захватило всё моё внимание и отвлекало меня от вопросов.
«Батюшки, что же это я делаю!» в ужасе подумал я.
И вдруг, — до этой минуты я совершенно забыл об этом, — вдруг мне вспомнилось, что у меня в кармане лежит нож. Я захватил его дома, потому что он попался мне на глаза.
«Не выдержу — зарежусь», подумал я тогда, теперь чёрт знает, какие мысли понеслись в голове.
Не длить этой пытки, выхватить нож, полоснуть себя по горлу на глазах у этого саркастически улыбавшегося учителя.
Но в эту минуту он наклонился, обмакнул перо и начал искать в экзаменационном листе мою фамилию.
Всё замерло во мне.
— Три!
Я был переведён.
Я переэкзаменовывался последним. Когда я выходил на гимназический двор, немец-латинист тоже выходил из учительского подъезда.
У подъезда его ждала жена, молодая немочка, с добродушным лицом, в веснушках, и двое детей, — младший, бутуз лет четырёх, в шапке с помпоном.
Бутуз схватил меня за шинель, когда я проходил мимо.
Я осторожно отвёл его толстую ручонку. Бутуз рассмеялся, мать усмехнулась, немец-латинист дружески мне улыбнулся и кивнул головой.
Отчего они «на службе» превращаются в таких чёрствых чиновников, эти люди, которые в частной жизни ведь такие же милые люди? Почему они оставляют все «штатские чувства» в швейцарской, вместе со штатским платьем, и, переодеваясь в вицмундир, застёгивают на все пуговицы свою душу?
Мне жаль всех трёх жертв этой трагедии, кровью обагрившей школу: и бедного директора, оставившего после себя семью, и учителя, раненого и пережившего ужас, и мальчика, вся жизнь которого теперь исковеркана и изломана.
В школе делают облегчения. Уничтожают экстемпорале. Но прежде всего, главнее всего, должна исчезнуть канцелярская сухость, департаментская холодность, превращающая нашу школу в «службу» и учеников в «маленьких чиновников».
Я берусь за перо для того, чтоб защищать теперешнюю среднюю школу. Не троньте этих кругов! Этих восьми кругов маленького гимназического ада!
— Я больше не знаком с Карлом. Карл негодяй: «он не знал родительного падежа от слова „domus“ [5]».
Так рассуждали два маленьких школьника, когда Гейне выезжал из Дюссельдорфа. [6]
У нас Гейне этого бы не услыхал!
— Скворцов Евдоким — зубрила! Он знает даже, как склоняется слово «domus».
Бьют зубрил, и истинные герои сидят на последней скамейке.
Поколениями школьников выработалась традиция, что истинный негодяй, это — тот, кто всегда учит уроки. К нему относятся так, как в департаменте относились бы к чиновнику, который стал бы моментально предупреждать всякое желание начальства, который таскал бы работу к себе на дом, не пил бы, не ел, не спал, чтоб только выполнить приказания начальства.
— Выслужиться хочет, каналья!
Первый ученик — изменник класса. Гнуснейший из изменников. Он для того и зубрит исключения, чтоб подвести своих товарищей.
— Вы не успели приготовить урока? А почему же Скворцов Евдоким успел?!
Первый ученик — первый не только по отметкам, но и по количеству получаемых щелчков.
Зато ученик, который списывает все extemporalia, уроки просматривает во время «перемен», отвечает не иначе, как с подсказкой, и даже книг домой не носит, а оставляет их в парте, — предмет удивления, благоговения, зависти всего класса.
У нас нет средней школы, у нас есть канцелярия, в которой маленькие чиновники отбывают восемь лет тяжёлой, утомительной, скучной службы. И никто не ходит учиться. Ходит отбывать ужасную повинность:
— Потому что это необходимо.
Прослужишь восемь лет в гимназистах, дослужишься до студента. Точно так же, как папа, пробыв десять лет в коллежских секретарях, дослужился до надворного советника.
Тихо туманное утро столицы… По улице медленно ползёт маленький клоп-гимназист. Ранец за плечами, много дум в голове:
— География нынче не вызовет: в прошлый раз вызывала. Арифметику подзубрю во время большой перемены. Латынь… Семёнову щелчков надаю, чтоб дал extemporale списать! Немец не велик чёрт, да и Шустер Карлушка, немчура, подскажет. Всё!
А в это время отец этого клопа, кутаясь в ватное, поношенное пальто, идёт на службу и рассуждает:
— С докладом сегодня не ходить, доклады по четвергам. Значит, эти бумаги можно пока и в сторону. Резолюцию по делу № 000 надо заготовить. Ну, это можно на Иванова 32-го прикрикнуть: «Что вы баклуши бьёте? Сядьте-ка вот да заготовьте резолюцию. Лучше будет». Дело за № 00… Можно будет при отношении в другое ведомство послать, оно и с рук долой. Надо только отношение позаковыристее написать. Ну, это можно Иванову 35-му дать. Человек старательный, ему выдвинуться хочется. Кажется, — и всё?
Скажите, велика ли разница между сыном и папашей? Между департаментом и гимназией? Между отношением к науке и отбыванием канцелярской повинности?
Да и откуда этому клопу набраться другого отношения к науке?
— Зачем непременно нужно знать, что глагол «кераннюми» употреблялся древними греками за 1000 лет до Рождества Христова для обозначения «смешивать» вино с водой! Когда древние греки смешивали муку с песком, они прибегали для этого к другому глаголу. Зачем знать это, когда и греки эти уж давным-давно померли, да и вина этого нет, и смешивать теперешнее вино нечего: оно уж смешано. Зачем? Никто в целом мире не даст на это ответа пытливому уму маленького мальчика.
Мама…
Я беру среднюю семью. Милую среднюю семью, где при детях говорят правду. Есть высшие семьи, где при детях ведут педагогические разговоры, т. е. лгут. Так с детства детская душа отравляется ложью в педагогических целях. В этой высшей семье,