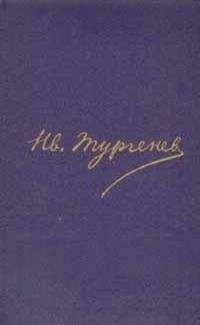При голосовании в Цензурном комитете судьба второй части «Нови» была решена положительно преимуществом, в один голос. О цензурной борьбе вокруг романа Тургенев писал В. Рольстону 6(18) февраля 1877 г.: «В Комитете цензуры произошла великая scission; но министр внутренних дел Тимашев добился разрешения печатать, за что я должен его благодарить, хотя он и заявил, что знай он заранее всю книгу, он никогда не допустил бы ее издания; но было уже слишком поздно — а если бы вторая часть была запрещена или искажена пропусками, это явилось бы своего рода оскорблением общества и скандалом. Итак, дело сделано. „Проскочило“, как говорят русские» (ср. с письмом к Ю. Шмидту от 13 (25) апреля 1877 г.).
Изучение автографов «Нови» дает возможность еще раз критически подойти к свидетельству М. П. Драгоманова о двух якобы изъятых цензурой сценах из «Нови». В одной из них, по словам Драгоманова, был «изложен разговор Маркелова с губернатором после ареста», а в другой (это была целая глава) — «описано „хождение в народ“ Марианны», которая «оказалась более способной подойти к будничной жизни крестьян, чем переодетые студенты, и возбудила к себе более симпатии и доверия мужиков»[93]. Изучение цензурных материалов, связанных с «Новью», опровергает эту версию и позволяет высказать предположение, что Тургенев, возможно, мистифицировал Драгоманова, выдав сокращения и поправки одной из черновых рукописей романа за цензурные изъятия.
В черновом автографе романа упомянутых сцен нет. Можно, однако, предположить что Тургенев действительно намеревался их написать. О том, что сцена у губернатора была задумана по-иному, свидетельствуют письмо Тургенева к А. В. Головнину от 8(20) февраля 1877 г. и запись о ней во второй редакции рассказа (см. выше, с. 420). Намек на приготовления Марианны к будущему «хождению в народ» содержится в главе XXX «Нови», в письме Нежданова к Силину: «Она <Марианна> даже башмаки с себя пробовала снять; ходила куда-то босая и вернулась босая. Слышу — потом — ноги себе долго мыла; вижу, наступает на них с осторожностью, потому с непривычки — больно; а лицом вся радостная и светлая, словно клад нашла, словно солнце ее озарило» (с. 326). Это добавление, вписанное Тургеневым в корректуру, в первопечатный текст, однако, не вошло и было восстановлено Тургеневым в отдельном издании романа 1878 г. Очевидно, Стасюлевич опустил его из-за цензурных опасений, усилившихся в связи с тем, что в обществе ходили всевозможные слухи о приближавшемся «Процессе 50-ти», в котором значительную роль играли женщины. Возможно, что сцена с Марианной — это всё, что было осуществлено из предполагавшейся писателем главы о хождении Марианны в народ.
V
В основе творческого метода Тургенева всегда лежали наблюдения над реальными лицами и событиями. «Всякая написанная мною строчка, — рассказывал Тургенев X. Бойесену, — вдохновлена чем-либо или случившимся лично со мной, или же тем, что я наблюдал. Я не копирую действительные эпизоды или живые личности, но эти сцены и личности дают мне сырой материал для художественных построений. Мне редко приходится выводить какое-либо знакомое мне лицо, так как в жизни редко встречаешь чистые, беспримесные типы»[94]. Сохранившиеся подготовительные материалы к роману «Новь» и особенно «Формулярный список» могут служить убедительным подтверждением этой мысли.
В письме к Я. П. Полонскому от 22 января (3 февраля) 1877 г. в ответ на вопрос: в каком городе развертывается действие «Нови» — Тургенев ответил: «Я взял букву С. для означения города, как взял бы А., Б. или даже X., и нисколько не думал ни о Симбирске, ни о Самаре». В данном случае, уклончиво отвечая Полонскому, Тургенев, по-видимому, опасался слишком прямолинейных аналогий с реальными политическими событиями, происходившими в 1870-е годы. Однако не подлежит сомнению, что в романе нашли отражение наблюдения Тургенева, почерпнутые им в наиболее ему знакомой средней полосе России, и прежде всего в Орловской и Тульской губерниях. Не случайно поэтому в черновой рукописи вместо С… ой губернии в ряде случаев обозначена Т… ая губерния, а город К., куда послали Машурину, раскрыт как Калуга. Когда друзья указывали Тургеневу на неправдоподобность некоторых эпизодов или сцен в романе, Тургенев, защищаясь, черпал аргументы, взятые из близкой ему русской жизни Орловской губернии. Так, отвечая на критические замечания А. М. Жемчужникова, Тургенев писал ему 5(17) марта 1877 г.: «Нежданову ничего не стоило побывать в 5 кабаках; в соседстве моего имения, где больших сел нету, в радиусе 7 верст — 11 кабаков, — и их очень легко обойти в один день». Даже названия деревень в «Нови» — Борзёнково (имение Маркелова) и Голоплёки (отсюда — «голоплецкий Еремей») не придуманы писателем: деревни с такими названиями действительно принадлежали Тургеневым[95]. Известно, что при описании старинного дворянского сада Сипягиных (глава VIII) Тургенев воспользовался набросками из уничтоженного им первого романа «Два поколения», в основе которого лежали наблюдения писателя над поместным бытом Орловской и Тульской губерний[96]. В «Новь» перешли также из этого романа две колоритные фигуры старого помещичьего быта — карлица Пуфка и няня Васильевна (см. главу XIX).
В «Формулярном списке» и других подготовительных материалах к роману Тургенев указал следующие прототипы действующих лиц «Нови»[97]: Нежданова — А. Ф. Онегин (Отто), а также «взять несколько от Писарева»; Марианны — А. Н. Энгельгард, Луиза Виардо-Эритт; Калломейцева — И. П. Новосильцев, В. А. Шеншин, A. В. Шереметев, Б. М. Маркевич, М. Н. Лонгинов; Сипягина — И. П. Борисов (по первоначальному, отвергнутому писателем замыслу), Д. А. Толстой, А. А. Абаза, H. M. Жемчужников, П. А. Валуев, Д. П. Хрущев, Д. А. Оболенский; Сипягиной — M. H. Зубова; Кислякова — В. Г. Дехтерев; Паклина — А. Скачков, М. А. Языков (это касается только внешности: «рот как у Языкова (М. А.)», «Взять несколько от наружности Скачкова»); Анны Захаровны Сипягиной — Берта Виардо.
В письмах к П. В. Анненкову от 11 (23) и 18 (30) ноября 1876 г. Тургенев назвал В. В. Стасова[98], певца и дирижера Д. А. Агренева-Славянского и П. А. Вяземского[99] прототипами образов Скоропихина, певца Агремантского и «князя Коврижкина» в «Нови». О том, что в романе «продернут — и весьма бесцеремонно» B. В. Стасов, Тургенев писал также А. В. Топорову 2(14) декабря 1876 г. (ср. с письмом к Ю. П. Вревской от 16 (28) декабря 1876 г.: «…он <Стасов> там выведен в комическом свете»). В письме к Полонскому от 22 января (3 февраля) 1877 г. Тургенев отметил, что существовали реальные прототипы образов Фомушки и Фимушки: «Я вспомнил такую старенькую чету, которую знал когда-то».
Даже те персонажи, которые лишь вскользь упоминаются в романе, не придуманы писателем, а созданы им на основе реальных наблюдений. Так, например, для установления генеалогии Хавроньи Прыщовой, сатирическую характеристику которой дает Паклин в главе XXXVIII романа, важно письмо Тургенева к Анненкову от 13 (25) августа 1872 г. с высказыванием писателя об Е. В. Салиас[100]. Прототипом Гараси, лучшего ученика крестьянской школы, послужил крестьянский мальчик Никита Гарасичев, ученик Спасской школы, в судьбе которого Тургенев принимал живое участие. «Кстати, что сделалось с умным мальчиком Никитой, которого я видел третьего года в школе и который такие делал успехи? Жив ли он — и продолжает ли хорошо учиться? И как идет вообще школа?» — спрашивал Тургенев Н. А. Кишинского 26 февраля (9 марта) 1876 г. И далее, получив от управляющего благоприятный ответ, снова вспомнил о мальчике в письме от 22 марта (3 апреля) 1876 г. «Мне приятно слышать, что Никита Гарасичев продолжает хорошо учиться и вести себя; прошу наблюдать за ним и оказывать ему всякое вспомоществование»[101].
Образы Калломейцева и Сипягина носят в романе собирательный характер, что было замечено многими современниками. 13(25) февраля 1877 г. А. В. Головнин писал Н. В. Ханыкову: «Весь круг Сипягиных, Калломейцевых, болеславов при Закревских[102] не простит ему выведенных на сцену образчиков их общества» (см.: Т, ПСС и П, Письма, т. XII, кн. 1, с. 542). С. К. Брюллова, посвятившая роману «Новь» большую статью, свидетельствующую о демократических взглядах ее автора, справедливо утверждала: «Мастерски, злостно и вместе юмористически очерченный образ Сипяг<ина> и Калломе<йцева> — это вызов всей партии покойной „Вести“, Каткова, Валуева с tutti quanti. Они уже прислали ему расписки в получении оплеухи, как некогда хотели послать после „Дыма“»[103].
Сопоставление суждений Калломейцева в романе с некоторыми статьями «Московских ведомостей» позволяет сделать вывод о близости идей, проповедуемых Калломейцевым, к воззрениям М. Н. Каткова и его единомышленников. Так, например, в главах VI и IX Калломейцев говорит о том, что он «нигилистам запретил бы даже думать о школах», заводил бы школы только «под руководством духовенства — и с надзором за духовенством» (с. 168) и что народу «лучше <…> знать пифика или строфокамила, чем какого-нибудь Прудона или даже Адама Смита!» (с. 187).