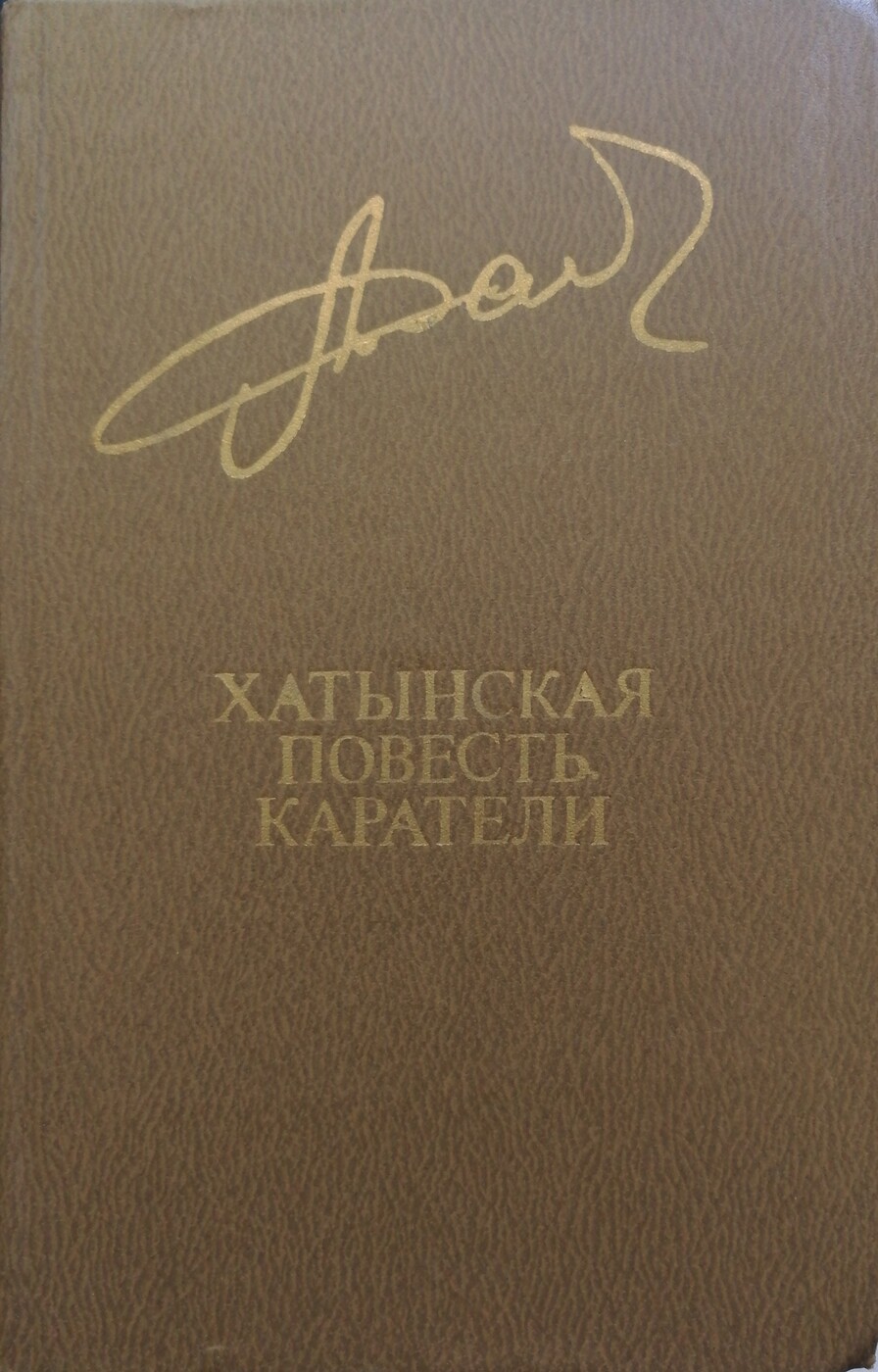шаги их соударялись, не сливаясь в одном звуке: младший рангом фюрер старательно запаздывал с ударом подковок, и это было точно рассчитанное нарушение — сбой подчеркивал, что их все-таки двое, и младший лишь дополняет.
Караула немецкого внутри здания нет, лишь у входной двери да по углам. Гауптшарфюрер всем распорядился, как надо, хотя и не знает окончательного решения, всей идеи старшего начальника. Нет, что ни говори, а чисто немецкое подразделение — не служба, а одно удовольствие. Не зря другие командиры так держатся за это и совсем не радуются перспективе, что и их разбавят иностранцами в такой же мере, как особый батальон Дирлевангера. Иностранцы носят немецкие мундиры и служат по немецкому уставу, но неарийская порода выдает себя, и прежде всего скукой подчинения. Командовать — пожалуйста! А вот подчиняться им скучно, нет в них этой радости подчинения старшему, высшему! Уметь подчиняться, чтобы иметь право командовать с той же истовостью — вот чему научила история и что в крови у немцев, и пусть это останется только их достоинством. Этим горы сдвигать можно, ну, а с чужестранцами нужен совсем другой рычаг. Еще искать и искать его! Но не найдешь, если не искать.
Из комнаты-класса, которую уже минули фюреры, выскочил полицай и, подергивая руками пояс, промчался вперед, локтем выбив большой пласт штукатурки, так что она пыльно рухнула прямо под ноги немцам. Полицай ойкнул от ужаса и исчез в дальней комнате. Веяло свежим дерьмом — поверх всех запахов, тоже не медовых. Младший фюрер скосил глаза — должен он обрушить кару на голову виновного? — но понял, что принято решение дерьма не замечать и идти к цели.
В том классе, куда нырнул вонючка, разноодетые полицейские уже выстроились, дожидаются. Старательно расправили на рукавах полицейские повязки, грязные, измятые от ношения в кармане. Снимет эту тряпку, и как ты отличишь его от бандита. На бандитах зелено-немецких штанов и френчей даже больше. Приходится дирлевангеровцам нацеплять на погон белый лоскуток, чтобы в бою своих видеть, отличать.
Для сегодняшней акции такие полицаи вполне подойдут. Легче легкого объявить их бандитами. Напомнить, как убежали при первом выстреле; когда бобруйская полиция привлекла их к операции против партизан месяц назад?..
На грязных подоконниках куски хлеба, какие-то тряпки, по углам — узлы, мешки. Собрались в дальнюю дорогу, судьба деревни, слава богу, не их судьба! Они же полицейские, их увезут, их семьи убивать, жечь не будут!.. Испуганные, бессмысленно или хитро вытаращенные глаза. Тянутся изо всех сил, изображают «смирно», а не все пищу прожевали, а один все еще ремень затягивает… Конечно, можно напомнить (не им, а своим, иностранцам), что борковские дважды разбегались, когда их брали в экспедицию против партизан. Но это упростит акцию. И так им слишком многое слишком понятно. Боги, пути и мотивы которых ведомы, поступки объяснимы, — не боги, а всего лишь начальство. Которое можно пытаться и обмануть, и обойти. Только недоступное пониманию действует как следует. Когда из батальона сбежали девять человек — целое отделение, охрана моста, Дирлевангер приказал столько же расстрелять. Сам смотрел списки батальона и сам ставил крестики против фамилий — наугад. Не спрашивал командиров, кто и какой, а на ком карандаш споткнется. Но разве всем немцам понятны поступки фюрера? И разве из-за этого их любовь меньше? Без господства духа не получается и господства силы, а лишь временный перевес.
Оскар Дирлевангер любит пойти к людям, которых уже обожгла догадка, что с ними сделают, постоять и посмотреть, и послушать, как ревет в них ужас — даже если они молчат…
Улица вся заляпана коровьими лепешками, младший фюрер мужественно бросился вперед, гневно забирая на себя и отбрасывая подергиванием ноги то, что могло оскорбить сапоги самого штурмбанфюрера. А оно не отклеивается, оно не отбрасывается, и офицер гневно взглядывает на солдат, которые, вместо того чтобы сделать что-то, лишь бесполезно вытягиваются да невольно следят, как ноем начальства таранят коровьи лепешки. С вилянием и подергиванием пробирались, танцуя, по улице и подошли к большому, из толстых бревен гумну. Ворота подперты кольями и телегой, на которую навалили гору мешков. Но лошадь не выпряжена, выворачивая оглобли, она пытается хватать траву, что растет у самой стены. Тихо в гумне, никогда бы не сказал, что там двести или триста душ. Разные, очень разные бывают эти гумна, амбары, сараи, церкви: другие уже разламывало бы от воя и крика, а здесь даже ласточки не боятся залетать и вылетать с чириканьем из подстрешья.
Люди в голубых жандармских мундирах по знаку гауптшарфюрера бросились отводить лошадь с груженой телегой, снимать колья, а другие выстроились полукругом с автоматами, чтобы остановить и отбросить, если запертые попытаются самовольничать. Нет там, что ли, никого, в этом гумне? Обычно напирают, слепо наваливаются на ворота, и те дышат, как жабры выброшенной на жаркий песок рыбы. А тут… Ворота свободно раскрылись, и Дирлевангер увидел в полумраке сначала глаза, множество глаз. Но почему все эти бабы и дети все отодвинуты в глубь гумна? Когда Дирлевангер понял, в чем дело, он оглянулся на младшего фюрера, и тот встретил его взгляд с одинаковой готовностью принять одобрение или порицание. Нет, Дирлевангеру понравилось. Пока у солдат играет, работает фантазия и не иссяк юмор — изобретательный юмор дирлевангеровцев! — можно поручиться, что все идет как надо. Значит, на деле, а не на бумаге есть, бурлит радость исполнения солдатского долга. Такая работа, что и говорить, не у каждого сразу заладится. И первый признак, что еще не приспособились, — напряженные лица и серьезность во всем. Но потом и в самой работе начинают искать и находить отдых. Как тогда, зимой, кому-то же пришло на ум! Деревню обработали тщательно, улицу за улицей, двор за двором, вроде бы ни души не осталось, но когда подожгли и уезжали, оказалось, что одна еще жива, но не к стыду, а во славу батальона. У самой дороги, где уже начиналось заснеженное поле, увидели одиноко стоящую железную кровать и даже кривой стол при ней, а на столе различные банки-склянки. Поль и его пьяно-веселая команда не посчитали за труд, выволокли из хаты черную, больную старуху, вместе с кроватью далеко унесли из деревни и оставили ее здесь, у дороги. Солдаты смотрели на ошалевшие глаза неподвижно лежащей на своей кровати женщины, и ни один не уезжал без улыбки, советы и пожелания сыпались сверху, с машин: — Эркельте дих нихт, матка!.. Кригст ду нох киндер — руф унс цур кинд стауфэ… Найн… Шис. нихт! Лассен вир