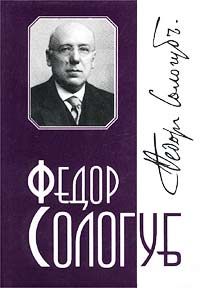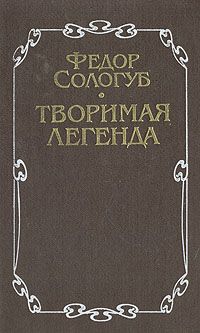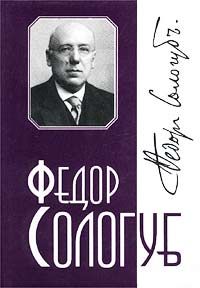— Он икону украл.
Триродов подошел к председателю. Сказал:
— Разве вы не слышите этой брани и клеветы по моему адресу?
Тумарин глянул на Триродова злобно и грубо протянул:
— Ну?
Триродову стало весело. Долговязый врач показался ему маленьким дерзким мальчиком. Захотелось погладить его по голове. Триродов ласково, как говорят с детьми, сказал:
— Вы бы призвали их к порядку.
Угрюмый врач продолжал дерзить:
— Ого! Рты зажать хотите, королевские привычки загодя усваиваете! У нас этот номер не пройдет.
Триродов сошел с эстрады. Лохматые молодые люди в блузах, подпоясанных ремешками, и девушки с раскрасневшимися некрасивыми, но очень умными лицами, какие бывают только у недалеких людей, свирепо кричали ему в лицо бранные слова. Одна курсистка в красной кофточке, когда Триродов проходил мимо нее, сложила руки рупором и пронзительно засвистала. Малый с глянцевитыми волосами, похожий на приказчика, крикнул:
— Вы запугать нас хотите. Да мы не такие трусы, как Лабазников.
Говоривший напоминал злосчастную судьбу одного здешнего купца.
Сын богатого купца-домовладельца Лабазникова, мальчик лет семнадцати, шалун, проводивший большую часть своего свободного времени на дворе и на улице около отцовских лавок и амбаров, заметил у забора в своем дворе какую-то бумагу. Это была занесенная ветром или кем-то подброшенная прокламация. Одна из тех, которых было тогда много.
Мальчик прочитал прокламацию. Не очень много в ней понял — его образование не пошло дальше городской школы, — но почуял в ней ущерб своего классового интереса. Он сообразил, что приказчикам и мальчишкам из лавки показывать ее не след. Отдал ее отцу.
Отец тоже прочитал. Понял столько же. Решительные выражения прокламации навели на него страх. Он отнес ее квартиранту, казначейскому чиновнику.
Чиновник, вернувшись со службы и пообедав, облекся, по обыкновению, в широкий бухарский халат, надел мягкие высокие татарские сапоги и сел у окна читать газеты и смотреть, что делается на улице. Лабазников показал чиновнику прокламацию. Спросил:
— Что мне с нею сделать? Так как мы в гимназиях не обучались, то мне что-то и невдомек.
Чиновник в халате взял прокламацию, молча повертел ее в руках, сурово посмотрел на Лабазникова и не читая возвратил помятую серую бумажку. Лабазников испугался. Не посмел расспрашивать. С тем и ушел.
После того Лабазников стал задумчив и пуглив. Плохо спал, мало ел, с тела спал.
Недавно во двор к Лабазникову пришла санитарная комиссия для осмотра. Лабазников очень испугался. Вышел на двор. Прячась от посетителей, стал рыть заступом яму. Он шептал побелевшими губами:
— Прокламацию надобно спрятать.
Теперь Лабазников совсем помешался. Он постоянно прячет что-то. Ему все чудятся обыски.
В числе говоривших за милицию Триродов с удивлением узнал молодого телеграфиста Ценкина, большого любителя театра. Ценкин прежде посещал иногда Глафиру Конопацкую, хотя и не записывался ни в одну из ее темных организаций. Он был деятельным членом товарищества для устройства спектаклей в народном доме.
Ценкин произнес страстную радикальную речь. Впрочем, здесь и все ораторы говорили очень страстно и очень решительно, не скупясь на эпитеты. Когда Ценкин кончил, когда затих гром рукоплесканий, — всем таким ораторам рукоплескали громогласно, — и когда внимание собравшихся перешло на другого, Триродов подошел к Ценкину. Сказал ему тихо:
— Я думал, что вы из черной сотни.
Ценкин сделал важное и серьезное лицо и сказал:
— События открывают глаза всем.
И потом сказал горячо:
— У меня маменька — русская, а папенька был выкрест из евреев. Ну и что же, вы думаете, я не чувствую страданий угнетенного племени?
Говорили за милицию еще начальник железнодорожной станции Голвин и его письмоводитель Вожаков. Говорили почти одно и то же и почти одними, и теми же словами.
Потом говорил учитель гимназии Бодеев. Он старался изобретать новые аргументы. Его пискливый голос раздражал Триродова. Маленький, толстенький, белобрысенький, в очках, с реденькою бородкою, с похилыми плечами, Бодеев слишком похож был на учителя. Слова о вооружении, о самозащите казались в его устах забавными.
Досадливо подумал Триродов, что люди с таким голосом не могут говорить правды, потому что не знают ее, да и не могут знать. Голос в большей степени, чем это думают, является выразителем полноты жизнеощущения. Гортань — не только орган голоса, она — и половой орган, связанный с самым таинственным и глубоким в организме живого существа. Полный и звучный голос знаменует полноту и значительность телесных переживаний, плодовитость организма. Кастраты и люди стерилизованной души таким полнозвучием не обладают.
Но собравшимся нравился Бодеев, как и все такие ораторы. Восторг освобождения, столь, по-видимому, близкого, требовал слов пламенных и громких. Гром рукоплесканий покрыл речь Бодеева, — конечно, гром: иного выражения и подбирать не следует.
С ужасом и с тоскою смотрел Триродов на волнующееся собрание, на все эти молодые, суровые, прекрасные в своей оживленности лица. Он думал печально:
«Ничего у вас не выйдет. Ненавидящий людей бросит тела ваши в глубокую пропасть, и бросит их друг на друга, чтобы засыпать пропасть вашими телами, — чтобы засыпать ее чем попало, благо ваша доблесть сама того хочет. Когда тела ваши истлеют, когда с наносною смешаются они землею, летучие ветры бросят на них семена полевых трав, и прорастут травы, и раскроют свои простодушные очи невинные цветы. Потом, когда-нибудь в земных веках, по возникшему над пропастью лугу пройдут на тот берег спокойно и безопасно те, кто еще не родились, кто родятся не от вас».
В зале между тем перешли к обсуждению практических вопросов.
Оказалось, что готово и оружие. Оно хранилось за городом, в доме управляющего большим имением какой-то генеральши, проводящей свои веселые дни в заграничных вояжах.
Начался сбор денег. Чья-то шапка передавалась из рук в руки. В нее бросали деньги, — была тут и медь, и серебро было, несколько бумажек и золотых монет. На бумажном ярлычке, пришпиленном к ней булавкою, была надпись карандашом: «На оружие».
С другой стороны пошла по рукам чья-то другая шапка. Ее картонный, заготовленный, очевидно, заранее ярлык гласили «На семьи безработных». Написано было фиолетовыми чернилами, подчеркнуто и снабжено восклицательным знаком.
Когда одна из этих шапок дошла до Триродова, он спросил:
— А чья шапка?
Юная красногубая курсисточка в очках грубо крикнула на него:
— А вам-то что за дело? Допросчик какой нашелся, — потише проговорила она.
Ее сосед, студент в косоворотке, угрюмо сказал:
— Ворующих здесь нет.
Триродов усмехнулся. Толкаясь в толпе, он увидел там двух ворующих и двух доносящих. Думал, что этого сорта людей здесь и еще бы можно было найти.
Меж тем председатель говорил:
— Внесено такое предложение. Так как могут быть раненые, то желательно сформировать санитарный отряд из желающих.
Со всех сторон закричали:
— Согласны!
— Сформировать!
— Пусть желающие записываются.
Председатель провозгласил:
— Предложение принято. Желающих прошу записываться.
Стали записываться многие из молодежи — студенты, курсистки, гимназисты и гимназистки. Председатель кричал:
— А где лазарет устроить?
— Здесь, — кричали в толпе, — удобнее нет места.
— Здесь и в народном доме.
Так и решили.
Разойтись спокойно не удалось. Когда стали выходить на дорогу, было уже темно и холодно. Яркие звезды зажглись в небе.
Все были оживлены и веселы. Казалось всем, что сделали какое-то необходимое и значительное дело. Веселые, гордые звучали песни.
Вдруг с двух сторон показались казаки. Пришлось вернуться в дом и расходиться уже поодиночке. Казаки рассыпались по всей дороге до города. Но никого не задержали.
Кирша был невесел. Темные предчувствия томили его. Триродов спросил:
— Что ты, Кирша?
Кирша тихо отвечал:
— Убивать будут.
Триродов улыбнулся. Спросил:
— Разве это так страшно?
Кирша говорил:
— Они будут бояться, будут плакать и кричать от страха. И темные люди, похожие на зверей, будут мучить их, терзать их тела, жечь их огнем. И дом наш сожгут.
Глава девяносто четвертая
Еще несколько месяцев тому назад Триродов построил сильно действующий аппарат для беспроволочного телеграфирования. Одну станцию этого телеграфа он установил в своей оранжерее. Соответствующая ей была установлена, по его письменным указаниям, в Пальме, в том самом доме, где жил Филиппо Меччио. После нескольких неудач дело пошло на лад, и Триродов мог сноситься со своими далекими друзьями беспрепятственно. В Скородоже никто не знал об этом аппарате, кроме двух преданных Триродову молодых инженеров, которые заведовали машинами в доме и в оранжерее.