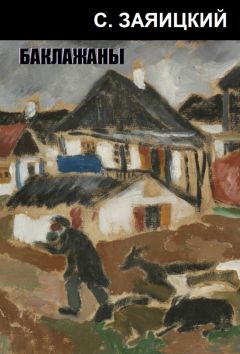— Муре, Муре! — закричала Анна Петровна отчаянно и кинулась опрометью в сени, отпихнув неловкого гостя. — Дверь затворите! — крикнула она через плечо.
Степан Андреевич смущенно прошел в комнату, взяв дверь на тяжелую щеколду.
— Как же это ты, Степа, замешкался? — проговорила Екатерина Сергеевна, покачав головою: — Ведь если Мурс не вернется, Анна Петровна может прямо с ума сойти.
— Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, — послышался знакомый голос из-за шкафа.
Пелагея Ивановна появилась, красотою своею насыщая тесные пределы комнаты, и даже вонь стала как-то приятна и не рвала ноздри.
— А, и вы тут, — сказала тетушка.
— Я с рынка зашла… Принесла кой-что Анне Петровне.
Комната Анны Петровны перемешала в себе в странной смеси все степени житейского благополучия. Возле стены стояла прогнувшаяся ржавая железная кровать с тюфяком без матраца. Тюфяк был полосатый, красный, без простыни и без подушки. Рядом с кроватью этой возвышалось огромное кресло: белые ручки с золотыми грифонами, спинка и сиденье, обитые голубым штофом — огромное кресло, присутствовавшее в комнате, как генерал на свадьбе у бедных родственников. Еще был простой, из немореного дерева стол и стулья, развинченные и расклеенные, готовые ежесекундно развалиться от первой же горячей жестикуляции сидящего на них. В углу стояла старая горка с посудой, но не с пестрым фарфором и не с сазиковским серебром, как бывает, а с примусом и двумя алюминиевыми кастрюльками. Окно было затянуто ржавою железною сеткою. В сетке этой застревала терпкая вонь.
Была одна в комнате деталь, которая не в первый миг выявилась, но когда выявилась, то решительно завладела вниманием — живая деталь: котищи, коты, кошки, кошечки, котята, котеночки, — всюду — на постели, под постелью, на столе, под столом, на горке, пол горкой, на кресле, под креслом, рыжие, черные, пестрые, серые, белые, клубком, сфинксиком, умываючись, всячески, в безмерном довольстве, в роскошной праздности, презрительные к миру.
— Как вы думаете, Мурс вернется? — спросила с озабоченностью Екатерина Сергеевна.
— Вернется, Анна Петровна напрасно волнуется… Беда, что они вовсе не приучены гулять.
Из-под стула, на котором сидел Степан Андреевич, в это время вылез большой серый кот и, страшно выгнув спину, начал с хрустом потягиваться.
Затем он прыгнул на кровать, где спали кошки, и — с видом султана в гареме — принялся их лениво осматривать. Апельсиновый кот на горке, еще не проявляя особого оживления, тем не менее уставил на него тяжелый взгляд. Серый кот поглядел наверх и выпучил зеленые глаза с восклицательным знаком зрачка.
— Что вы поделываете, Пелагея Ивановна? — спросил развязно и по-светскому Степан Андреевич. — Как поживает отец Владимир?
— Он занят очень. Столько у него хлопот с церковными делами: на днях поедет с владыкою в Харьков.
— В самом деле? И надолго?
Взгляд у рыжего кота становился все пристальнее, а позиция все сосредоточеннее. Серый кот насторожился.
— Да дня на три.
— Поскучать вам придется.
— Сейчас скоро варенье варить.
Коты теперь так и кололи друг друга глазами.
— Вот, вероятно, вкусное будет варенье.
— Почему же?.. Обыкновенное будет варенье.
— Ау-уа! — раздался дикий кошачий вопль.
Рыжий кот лавиной рухнул на серого, и они с воем покатились на пол. Кошки шипя выгнули спины, котята, котеночки, котешоночки посыпались, как горох, и исчезли под горкой. Черный кот с белыми усами взвыл и метнулся на воюющих.
— Разнимите их, они съедят друг друга! — кричала Екатерина Сергеевна.
Пелагея Ивановна схватила рыжего кота и тотчас, вскрикнув, выпустила. На ее белой руке от локтя сразу протянулись три кровавых полоски.
— Ах, негодяи! — воскликнул Степан Андреевич и с рыцарским бесстрашием ногой хватил по сражающимся.
Коты перекувыркнулись, и разлетелись по углам. Степан Андреевич вынул из кармана чистый платок и разорвал его.
— Степа! Что ты! — с жалостью вскричала Екатерина Сергеевна: — Батистовый-то.
— Бог с ним. Пелагея Ивановна, позвольте вашу ручку: я опытный хирург и прекрасно перевязываю раны… Ах, подлые коты… Не туго?
— Ничего. Платок только жалко.
Без эффекта прошла перевязка.
В дверь постучали.
— Пелагея Ивановна, — послышался голос Анны Петровны, — у меня к вам, душечка, просьба. Отворите дверь и сразу захлопните, боюсь, как бы не удрал Макдональд.
Анна Петровна просочилась в комнату сквозь почти незримую щелку. На руках у нее уже спал толстый полосатый кот.
— Вот он, злодей, — говорила Анна Петровна, улыбаясь счастливо, — вот он, разбойник. Кот! Кот! Мы гулятиньки захотели… нам надоело дома сидюшеньки. Кот! Кот!
Это была не старая еще женщина, очень худая и бледная, слегка похожая на Данте, в черном шелковом платье с бархатными заплатами и в широких мокасинах из рогожи.
— Вот это мой племянник, — сказала Екатерина Сергеевна, — Напрасно вы волновались… Мурс никогда не пропадет.
— Ах, не говорите, Екатерина Сергеевна, — очень приятно познакомиться, милости прошу садиться, — он иной раз на соседний двор бегает к одичавшим кошкам… Ну, помилуй бог, — обидят его мальчишки или собаки задерут… А мы ведь драчуны… Ох, мы какие драчуны!
Полосатый кот вдруг подпрыгнул и, вырвав из рук Екатерины Сергеевны сверток, разбросал печенку.
Тучей бросились из всех углов котики, коты, кошки, кошечки, котята, котеночки.
— Ах, обжоры, ну, посмотрите! Ведь только что их накормила. Гур, не мешай же кушать Гризетке… А этот-то… этот гуляка за обе щеки так-таки и уплетает… Ах, вы, мои глупышоночки!
Коты, чавкая и журча, жрали печенку, узорами растаскивая по полу сало.
У Степана Андреевича сквозь череп слегка стал просачиваться острый смрад. Мозгу тесно стало.
— А без вас тут драка была… Макдональд с Васькой… Пелагее Ивановне вон как руку починили.
— О, они починят… Мне раз до кости палец прокусили. Мы, скажите, зубастые… у нас когти острые, зубы крепкие… Мы, скажите, драчуны, шалуны… Кот! Кот! Да не мешай же кушать Гризетке!.. и за едой ловеласничает.
Но тут уже все гости сконфузились и сделали вид, что кошек и нет вовсе в комнате. Только Анна Петровна легонько шлепнула Мурса по жирному полосатому заду:
— Брысь, ловелас!.. Стыдно!.. И ты, Гризетка, не срамись. Под стол ступайте, под стол… Подумаешь, какие! Ромео и Джульетта.
— Степа прямо из Москвы приехал, — вздохнув, заговорила Екатерина Сергеевна, в то время как Пелагея Ивановна усиленно скребла ноготочком на столе какие-то пятна.
— Каково мне это слышать, моя золотая! Ведь я-то сама коренная москвичка. Всегда с рождения жила в Москве, в Сивцевом Вражке, у теток там был дом… И вот теперь… гнию в Баклажанах… Без копейки денег. А прежде тратила на платья по четыреста рублей за фасон… Я в Париж ездила специально шить платья у Пуарэ… Ламанова ко мне за советом обращалась. Макдональд… не увлекайтесь печенкой… помните, мой друг, что у вас некрепкий желудок… Я проклинаю тот день, когда я покинула Москву и по увещанию мужа поселилась в нашей здешней экономии. Я так скучала… Правда, зимой я ездила в Париж… Но летом… вместо Биаррица или Остенде — вообразите — Баклажаны… Я привыкла к пляжу, к казино… приличная публика. А тут самые дикие нравы… И отсутствие природы. Степь. Муж меня прямо носил на руках, но мне от этого было не легче… А потом еще эта революция… Мы переехали в город, потому что в деревне прямо было страшно жить… Васька… ведь ты же знаешь, что песочек за шкафом… Нечего мурлыкать…
Очень стыдно. А при Скоропадском муж мне предложил бежать за границу. А я — я подошла к своим гардеробам и думаю: как же я оставлю платья… Багажа нельзя было брать… И потом еще мебель. Я отказалась ехать. А он — странный, обиделся, что я предпочла ему платья, и уехал один. Теперь я давно все продала… и так трудно жить… Я писала мужу, что теперь я согласна… но он не отвечает… Ах, это такой эгоистичный человек… Помните Наталку Переперченко? Она ведь теперь также где-то в Бразилии, и я еще кое-что подозреваю… Но скажите… когда же все это кончится?
— То есть что?
— Большевики. Ведь это же ужасно… Нами правят хамы… Я — графиня — хожу в этом тряпье, а моя бывшая судомойка шьет себе каждый месяц новое платье.
— Ее муж хорошо зарабатывает, — заметила Екатерина Сергеевна.
— Да, но кто она такая?.. Ведь это же надо, мое счастье, принимать в расчет… Я вовсе не крепостничка, и я никогда на прислугу не кричала, но за стол я с собою кухарку не посажу… Il у a quelque chose… [6] что воздвигает между нами стену… И они это понимают…
— Советская власть, к сожалению, очень прочна, — почему-то обиженно сказал Степан Андреевич, — у нас в Москве о контрреволюции все и думать-то забыли.