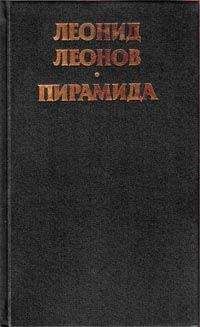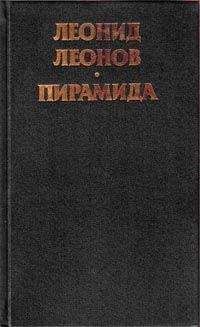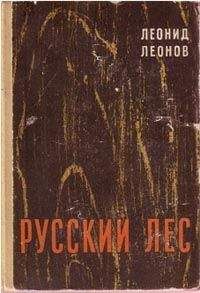- Я заявил себя при особом мнении. В конце концов, это порочит всю нашу корпорацию. Я уже не говорю о резервах, которые бессмысленны...
- Да ты не оправдывайся, отец. Дело-то уже сделано! Ты слишком быстро усвоил официальную терминологию на эти вещи. Ты обвиняешь, не зная условий, в которых это происходило. Впрочем, у нас в случае катастрофы всегда привыкли искать виновников, а не спрашивать, почему это произошло. Я читал твое мнение, ты заражен той же подозрительностью, но ведь ты же никогда не строил котлов...
- Мне пришлось краснеть за тебя, но пока я не обвиняю, - чужим голосом и с ударением вставил Скутаревский.
- Нет, ты обвиняешь!.. молча, по-интеллигентски. И ты забыл, где живешь. У нас да без резервов! Это в России-то, где без болотных сапог к соседу в гости не пройдешь. Дядя рассказывал, он еще доцентом купцу одному чертежи делал. Так он ему, подлецу, вчетверо закатил, вчетверо... а тот ему в благодарность Тьеполо прислал. Помнишь, которую в музей отобрали? Тяжел, но вынослив тот сапог, в котором она шагает, матушка, по своим историческим болотам. Я же на этой штуке неврастению заработал. Торфяную станцию приказали проектировать на парафинистом мазуте. Я сделал четыре проекта и до последнего момента не знал, будет ли станция разрешена. С оборудованием четыре месяца крутили - заказывать здесь или импортное. Турбину, как невесту, выбирали... и это называется плановостью? Энтузиастическая истерика, отец. Конечно, наше дело выполнять директивы... Да к чему это я? Прости, я выпил лишнее и все соскакиваю с мысли. Но почему ты молчишь?
- Я слушаю тебя, очень интересно. Ты продолжай...
Скупо, точно пасту из тюбика, Арсений выдавил из себя кусок улыбки:
- Ты знаешь, что Брюхе арестован?
- Я ждал этого, - почему-то вырвалось у старшего Скутаревского.
- ...вот, вот. А Брюхе выдающийся металлург, в любую минуту его возьмут хоть к Круппу. Впрочем, все это неинтересно. У меня что-то в голове сломалось... кажется, в вино нынче для цвета и вязкости примешивают шеллак!.. Погоди, я вспомнил... Я рад этому разговору, дальше все яснее будет. Вот: не уважаю тебя, не хочу лгать, молчать не хочу. Я перестал тебя уважать, когда ты... не отозвался никак на расстрел Игнатия Федоровича. Трусость, ладно, это еще понятно... нет, я знаю твое рассуждение о том, что государство вправе рационально распределять запасы, так сказать, людской материи. И если опыт не удался, следует сполоснуть колбу и выплеснуть в раковину... а может быть, и просто разбить? Это ведь твои слова: нечего горевать об утрате каждой отдельной особи... я еще мальчиком слышал. Ты ведь и раньше прощал этой земле все: войны, дома терпимости, крестовые походы, мечтателей в стиле Чингисов и Торквемад... И это не от безвольного великодушия, не от расслабленности интеллигентской, а потому, что для тебя это лишь электрохимические процессы... Эй, не хамить! - прикрикнул он какой-то паре, которая в увлечении этакой двойной молекулой наскочила на него. - Даже не политэкономия, свирепую мораль которой мы все ощущаем на себе, а просто движение атомов по Лапласовым координатам, игра сложного химического реактива, совокупность миллиарда физических законов, электронный ветер... вот что такое для тебя мир! Помнишь, мы ехали в машине, и ты засмеялся, сказав: мы едем - это только название процесса, к которому мы сами не имеем никакого отношения! И тогда все ясно: закон Гей-Люссака - это добро или зло? Это нужно или не нужно? Ха, мораль даже не из биологии, а из физики: ты выращиваешь ее внутри твоих газотронов. Но внутренне ты чувствуешь, как это нечестно по отношению к жизни, и оттого ты слушаешь меня! Что ж, чтоб жить теперь, каждый обязан выдумать себе подходящую философийку.
- Ты зубр, Сеник, ты просто зубр. Но ты ругаешься интересно... продолжай!
- Вот и я для тебя только колба... но ведь и все они то же самое, а? А человечество в целом - соответствует ли оно твоей догме? - И снова стрельнул в отца злым смешком. - Скажи мне, оплот советской власти, где тот человек, для которого все это делается?
- Что ж, Арсений, не цитатами мне с тобой разговаривать. Но давай вернемся к земле! Почему же, если ты самолично наблюдал всю эту вьюгу дурачества, вот с парафинистым-то мазутом... почему ты не закричал? Ведь тебе же деньги платят...
- ...донести? Ты меня не учил этому. - И вдруг, точно обозлившись на свою оговорку, в открытую набросился на отца: - А ты сам? Вы ездите, критикуете, вожди, а сами обследуете причины свечения рыб? - Он нарочно хотел обидеть его петрыгинской фразой. - А где... где твоя высоковольтная магистраль Донбасс - Москва, о которой шумели в газетах? Где твои многоуважаемые труды по передаче без проводов? Уж если так, вожди, пожалуйте к нам, на улицу, в наши суматошные, исстеганные будни, в разрытые карьеры, в дырявые бараки наши.
Сергей Андреич молчал, - возражать было бы бессмысленно, да и нечем, к тому же пора было кончать этот затянувшийся разрыв. Никто из них не нуждался в продолжении беседы. Рассеянным взором Сергей Андреич смотрел на сына, на его узкие плечи, на возросшую бледность лба с испариной утомления и думал - неужели это и есть концовка того ненасытного рода искателей, который он лишь собирался начать? Должно быть, какой-то захудалый предок высунулся из Арсения полюбопытствовать на новую жизнь; отец не прикасался к алкоголю, но прадед, кажется, не умел подавить в себе губительной склонности. Опыт с сыном не удался... А ему так хотелось повеселиться, пошуметь, попеть высоким дискантом, как в юности. Он встал и уже не пытался казаться веселым.
- Ну, вы кобелируйте тут, я пойду... - Он заметил неприязненную гримаску сына. - Ты извини, я груб на слово... Твой отец профессор, а мой - скорняк. Я тихонько, не прощаясь!
- А то посиди. Они сейчас перестанут танцевать. Я прикажу перестать...
- Я рано встаю, Сеник. Вот дожру только бутерброд и пойду. Я не обедал нынче... - Он жевал вяло, лососина имела привкус стоялой олифы.
Сын отошел к окну; отец искоса наблюдал, как сомнамбулически пробирался он между танцующих, наступая на ноги и бранясь. Сергей Андреич оглянулся на шорох; в кресле, рядышком совсем, сидел тот князец, который потчевал стихами друзей в начале вечеринки. В лице его, тусклом и пыльном, как герб фамилии, которую он носил, светилось тоненькое, лисье любопытство; часть разговора с Арсением он успел захватить и выслушал с удовольствием. Проходя мимо, Сергей Андреич задержал на нем свой тяжелый, незрячий глаз:
- Давно пишете?
Тот польщенно поклонился:
- Давно-с. Вам понравилось?
- Где вы теперь?
- Я?.. Переводчик в гостинице для иностранцев. - И опять, с надеждой: - Понравилось вам?
- Ага. - Скутаревский жевал лососину. - Что же не пьете? Такие стихи пишете, а не пьете. Вам запоем пить надо. У вас, наверно, и папа пил... Тот безмолвствовал, как простреленный. - Онанизмом занимаетесь? - У поэта отвалилась челюсть, и весь он дрожал. - Непременно занимайтесь! - И пошел.
Близ рассвета его разбудили песней; она проникла даже сквозь одеяло, в которое с головой закутался Скутаревский. Тут у него проскочили две мысли: первая - что нет особого греха в том, что сибирская станция несколько лишена облика вполне современной установки; вторая - намекнуть Черимову на душевное нездоровье его бывшего товарища, а при случае крупно поговорить и с шурином.
ГЛАВА 7
Когда при встрече, много лет спустя, они перечисляли обстоятельства их первого знакомства, оба не могли вспомнить - кто именно стоял на их левом фланге: красные или белые; одинаково могли быть и зеленые, а вероятнее всего, черная атаманская дивизия... Два разбитых, исковерканных отряда слились в один. Будущие друзья встретились за плошкой тощих солдатских щей. Молчание нечеловеческой усталости было их первой беседой. У Черимова не было ложки, у Арсения нашлась лишняя от пропавшего без вести товарища. Оба были мальчишки, их могли бы сблизить озорство юности или благоговейное восхищение Гарасей... Но дружба началась позже: их связали страх и чары одной безумной ночи...
Так обнюхиваются и звери на узкой лесной тропе; было, значит, что-то в лице Арсения, подсказавшее Черимову - не свой!
- Ты из Москвы? Я тоже. Твой отец кто?
- Мой? Учитель. - Голос Арсения дрогнул от непривычки лгать: было бы долго объяснять тому грубоватому самородному парню тонкое профессорское ремесло.
- О, значит, ты чистой масти. У меня дядька есть, тоже не грязной работы. Он людей моет, грязь с них обскребает... - и захохотал, точно яблоки на гулкий пол чулана просыпались из мешка. - Покурить ма?..
Отряд кочевал подобно сотням таких же, безымянных, партизанских... ими тогда всклубилось чуть ли не все население Сибири. Видно, не особо нуждался в комиссаре отряд, - комиссарил у них, избранный за великую его грамотность, Сенька Скутаревский, а командовал сухонький, земляного цвета старичок, мирный пчеловод, у которого атаман запорол старуху в поучение сельчанам, прятавшим красных от расправы. В то утро старик искал в лесу отроившихся пчел и не слыхал выстрелов атаманского набега. Придя домой, он обровнял просто руками хозяйкин холмик, который небрежно накидали атаманцы, раздарил медоносное свое богатство соседям, поклонился селу хатам, гумнам и скворешням его, надел кожух, рожок с порохом, взял шомпольное ружьецо и пошел с ним на охоту на атамана. Был он самый смирный человек на земле, жил простецким законом, обожал пчел, и всякое, даже о самом малом, слово его теплилось восковою свечой. И уж если вышел он добывать чужой крови, стало быть, сама земля оскорблена была в своем естестве, и начиналась народная война... Отрядишко подобрался по начальнику - всякая неграмотная голица, ветру родня; ребята звали старика ласкательно Гарасей.