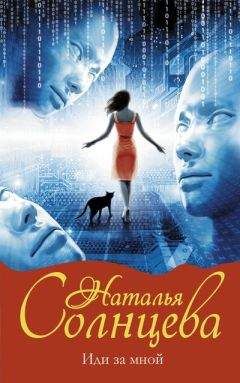- Эй, Васйль Герасимович! - позвал его кто-то. - Все готово. Пора.
- Идите, идите, я догоню, - не поворачиваясь, глухо отозвался Василий и еще долго стоял недалеко от свежего, собственноручно выструганного креста, среди высоких и беспокойных ракит, после полудня и особенно к вечеру их беспокойство начинало усиливаться, теперь ветер частыми порывами чувствовался даже в самом небе, взявшемся в высокой голубизне зеленоватыми ветровыми полосами,
Обед закончился быстро, выпили раз, другой, заели хлебом с селедкой, мочеными яблоками, огурцами, все больше в молчании. Утомившиеся за эти два дня старухи тоже не засиживались, и скоро за пустым длинным столом осталось человек пять с центральной усадьбы, все любители выпить и поговорить, но перед самым заходом солнца и они угомонились, и когда Петр-тракторист приехал на тракторе с прицепной тележкой за отцом, все они, торопливо опрокинув по последней, заторопились уезжать.
Только сам Андрей, несколько захмелевший, никак не поддавался уговорам сына, и тот, румяный, молодой, начинал сердиться.
- Ну, хватит, батя, - решительно заявил он. - Будешь дурачиться, уеду, а там добирайся как знаешь... У меня тоже дела!
- Знаем мы твои дела, девка ждет, - хотел накоротке отмахнуться Андрей, но тут же засуетился, усиленно заморгал и для придачи весу своим словам щедро наполнил стакан из стоявшей на столе бутылки.
- А хотя бы и девка, так что? - Глаза у Петра холодно сузились. - Ты что, в мои годы без девки обходился, батя?
- Да ты поезжай, поезжай, - с тихой и даже несколько робкой усмешкой заторопился Андрей. - Я и тут переночую, а коли надо будет, доберусь. - Он вытянул, словно напоказ, ноги в новых резиновых сапогах и кивнул в сторону Василия: - Когда еще с ним повидаемся, а мы вместе, считай, с бесштанной поры росли... Поезжай, Петр Андреевич, ты меня сегодня не дожидайся! А матери скажи, как есть.
Петр еще потоптался у порога, хмуро поглядывая то на отца, то на Василия, и затем как-то незаметно вышел, и Василий с Андреем остались вдвоем в ярко освещенном и совершенно пустом доме.
- Слышишь, Вась, - предложил Андрей, поднимая голову. - Хочешь, я выскочу, крикну... Поедем ко мне ночевать, а?
- Не надо.
- Ну, не надо так не надо, - тотчас согласился Андрей. - А то подумаешь чего...
- Ничего я не подумаю, а ты сам зря остался, - сказал Василий, прислушиваясь не то к странной и гулкой тишине пустого дома, не то к себе, к тому, что где-то рядом с сердцем то исчезала, то вновь разгоралась тихая и как бы притупленная боль, стараясь заглушить это неприятное ощущение, он подвинул к себе стакан, плеснув в него из бутылки, кивнул Андрею, и они молча, понимающе выпили. Молча посидели и опять слегка приложились, сейчас они оба чувствовали все более укреплявшуюся внутреннюю связь, и, хотя они были совершенно разные, связь эта все более усиливалась. Что-то почти забытое, темное, дремучее просыпалось в душе у Василия, и он, не обращая внимания на Андрея, казалось чутко сторожившего каждое движение хозяина, огляделся. Уже опустилась глубокая ночь, и небольшие окна сияли блестящими, бездонно черными провалами. "Это ночь, ночь, - с лихорадочной внутренней дрожью подумал Василии. - Это все она! Она! Что-то нехорошо..."
Он встал, намеренно не спеша начал было задергивать старенькие ситцевые занавески на окнах, но чей-то, показалось - посторонний, голое остановил его.
- Что? - повернулся он на этот неприятный голос и увидел в расширившихся глазах Андрея странное выражение, так смотрят, неожиданно застав кого-нибудь за чемто таким, чего другие никогда не должны видеть.
- Нельзя, говорю, - повторил Андрей, не отводя и не опуская глаз. Говорят, душа только на третий день с домом расстается... Вон, видишь? Он кивнул на передний угол, где бабка Пелагея под тускло горевшей перед сумрачным ликом иконы Ивана-воина лампадой, еле-еле заметно покачивающейся, уходя, заботливо поставила воды в стакане и рядом положила кусочек хлеба. - Оно ясно, старухи чего не наговорят, у них ночи долгие, пока все кости не перемоют, чего за ночь в голову не придет...
Василий ничего не сказал, но тотчас раздвинул занавески, опять открывая черные, бездонные провалы весенней ночи, он помедлил, стараясь хоть что-нибудь различить в этой непроницаемой и все-таки рождающей ощущение враждебности никому не подвластной жизни, но ничего различить было нельзя. И всплеск этой тьмы проник в душу Василия и обжег ее, он, еле сдерживаясь, чтобы не закричать, вернулся и сел к столу.
- Все в жизни чудно, - тихо сказал он. - Человек, он такой, ему надо поверить и тому, чего и нет. Мы-то с тобой, - Андрюш, по десять классов закончили.
- Это ты десятилетку одолел, - тотчас поправил его Андрей. - А я восемь, больше не вытянул.
- Верно, - вспомнил Василий. - Это все мать-покойница хотела, чтобы я в ученые пробился. А оно вон как получается, не того поля ягода.
- Да что тебе, живешь, что ль, плохо? - неожиданно горячо обиделся за него Андрей, потому что своими последними словами Василий как бы присоединил и его, Андрея, к своей судьбе и безжалостно подчеркнул, что оба они, в общем-то, ростом не вышли для чего-нибудь более лучшего в жизни, с самого рождения поставившей на каждом из них свою особую отметку. - Тут еще с какого боку глянуть...
- Ас какого ни глянь, - опять спокойно и равнодушно остановил его Василий. - Ты думаешь, если я в город уехал, так и все тебе? Э-э, на вот, выкуси! - Василий сложил пальцы в увесистую дулю и сунул ею в сторону двери. - Это так тем кажется, у кого мозгов мало. Я вон и в институт пробовал поступать, даже одно время заочно и прошел, год попыхтел и бросил. Не тот коленкор! Мог запросто хороший техникум одолеть, да не захотел, хотел на самой высоте покуражиться. Может, и зря. А, ладно!
Что теперь рассуждать... И Иван мой после десяти-то классов пыхал-пыхал-и в армию! Не смог проскочить, у него еще дух деревенский, а там у них, у интеллигентов, машина давно отлажена-он тебе еще пеленки марает, а к нему уже всякие профессора ходят. Английский тебе, математика... Что хочешь.
- Да ну? - удивился Андрей.
- Вот тебе и да ну! Он тебе еще... а место в жизни уже за ним. Он тебе вот такой, - Василий отмерил ладонью с аршин от пола, - золотушный, а поди его возьми, за ним вон какая толща из пап да мам да бабок с дедами.
Русскому мужику эта наука еще долго будет поперек горла, не скоро он ее одолеет... А все равно одолеет! - Василий внезапно тяжело и угрожающе качнулся в сторону Андрея, и тот, внимательно и заинтересованно слушавший его, обалдело отшатнулся.
- Ты чего шумишь? - усиленно заморгал он. - Ты, Вась, знаешь, зря на каждого не кидайся. Если у самого кишка тонка, кто тебе виноват? Чего тебя тогда в город повлекло? Сидел бы себе на месте, сосал лапу. Тоже придумал, город ему виноват. Вон у нас какой населенный пункт-Вырубки-то наши. И прыщом-то его не возвеличаешь, еще меньше. А погляди - Гришка Залетаев ныне Григорий Павлович Залетаев-генерал! А-а? Генерал!
А ты помнишь, у него под носом краснуха от соплей не сходила? А Федька Кудрявкин? Федор Елисеевич Кудрявкин, директор вон какого завода, депутат! Во-о! Значит, дадена им свыше мозга большая, вот тебе и весь оборот. А-а, что ты молчишь? - стал с нехорошей жадностью допытываться Андрей, и Василий, почувствовав эту его незабытую, темную, мохнатую ревность в отношении своей жизни, молчал. Другого ничего нельзя было доказать, это Василий знал давно. А впрочем, что ему Андрей? Так, смех один, все старается какую-нибудь болячку нащупать да позанозистей ковырнуть, ишь, бедняга, старается, даже про водку забыл, и в глазах-то просветление. Вот ведь порода, чем другому больней, тем самым себе выше, уж вроде ты и орел, воронам на страх. Ишь как у него все ходуном заходило, для этого и остался, не забыл Валентинуто, да и многого другого не забыл, сейчас все утвердить себя повыше ладится... А может, он и прав, этот сельсоветский дьяк, может, его правда помельче, да в жизни в чести-круто и неожиданно для себя повернул Василий. Что на него дуться? Как ему роднее, так и чешет себе, а поди разберись, у кого оно, это бремя, тяжелее...
Кого, в самом деле, винить, если сам не осилил?
Василий хотел успокоиться, но получилось наоборот, неожиданно для себя он тяжело, даже с ненавистью глянул в глаза Андрею, и тот, уловив эту непонятную ненависть, выпрямился, заморгал.
- Ну дерет тебя, ну дерет, а? - изумился он. - Ну, чего?
- А я все равно кулаком еще по столу бухну, - заявил Василий, по-прежнему ненавидяще не отпускал глаз Андрея, и тот до мутной дрожи где-то под сердцем обрадовался, он даже заерзал от этой расслабляющей радости.
- Не-е, - заявил он с готовностью, - не-е, Вась, не бухнешь, не-е... И я не бухну, и ты не бухнешь.
- Бухну!
- Не-е, не-е, - от упоения и чувства противоречия Андрей зажмурился. Не-е, наша с тобой витаминная мука кончилась...
- Что? - ошалело вскинулся было Василий, но тут же опал, посидел, раздумывая под лихорадочно блестевшим взглядом Андрея, затем молча и сосредоточенно налил водки в оба стакана, придвинул один Андрею. Тот так же молча взял, выпил.