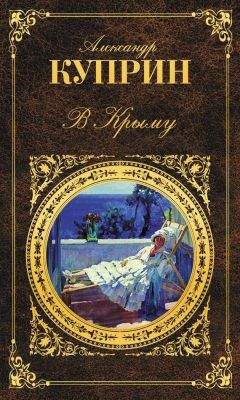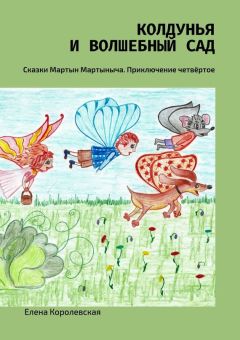– Послушайте, выпейте водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а перед обедом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!..
После обеда он пил чай наверху, на открытой террасе, или у себя в кабинете, или спускался в сад и сидел там на скамейке, в пальто и с тросточкой, надвинув на самые глаза мягкую черную шляпу и поглядывая из-под ее полей прищуренными глазами.
Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали по телефону, можно ли видеть А. П-ча, постоянно кто-нибудь приезжал. Приходили знакомые с просьбами о карточках, о надписях на книгах. Бывали здесь и смешные курьезы.
Один «тамбовский помещик», как окрестил его Чехов, приехал к нему за врачебной помощью. Тщетно А. П. уверял, что он давно бросил практику и отстал в медицине, напрасно рекомендовал обратиться к более опытному доктору, – «тамбовский помещик» стоял на своем: никаким докторам, кроме Чехова, он не хочет верить. Волей-неволей пришлось дать ему несколько незначительных, совершенно невинных советов. Прощаясь, «тамбовский помещик» положил на стол два золотых и, как его ни уговаривал А. П., ни за что не соглашался взять их обратно. Антон Павлович принужден был уступить. Он сказал, что, не желая и не считая себя вправе брать эти деньги как гонорар, он возьмет их на нужды ялтинского благотворительного общества, и тут же написал расписку в их получении. Оказывается, только того и нужно было «тамбовскому помещику». С сияющим лицом, бережно спрятал он расписку в бумажник и тогда уж признался, что единственной целью его посещения было желание приобрести автограф Чехова. Об этом оригинальном и настойчивом пациенте А. П. рассказывал мне сам – полусмеясь, полусердито.
Повторяю, многие из этих посетителей порядком донимали Чехова и даже раздражали его, но, по свойственной ему изумительной деликатности, он со всеми оставался ровен, терпеливо-внимателен, доступен всем, желавшим его видеть. Эта деликатность доходила порою до той трогательной черты, которая граничит с безволием. Так, например, одна добрая и суетливая дама, большая поклонница Чехова, подарила ему, кажется в день его именин, огромного сидячего мопса, сделанного из раскрашенного гипса, аршина в полтора высотою от земли, то есть раз в пять больше натурального роста. Мопса этого посадили внизу на площадке, около столовой, и он сидел там с разъяренной мордой и оскаленными зубами, пугая всех, забывавших о нем, своей неподвижностью.
– Знаете, я сам этого каменного пса боюсь, – признавался Чехов. – А убрать его как-то неловко, обидятся. Пусть уж тут живет.
И вдруг, с глазами, загоравшимися лучистым смехом, он прибавлял неожиданно, по своему обыкновению:
– А вы заметили, что в домах у богатых евреев такие гипсовые мопсы часто сидят около камина?
В иные дни его просто угнетали всякие хвалители, порицатели, поклонники и даже советчики. «У меня такая масса посетителей, – жаловался он в одном письме, – что голова ходит кругом. Трудно писать». Но все-таки он не оставался равнодушным к искреннему чувству любви и уважения и всегда отличал его от праздной и льстивой болтовни. Как-то раз он вернулся в очень веселом настроении духа с набережной, где он изредка прогуливался, и с большим оживлением рассказывал:
– У меня была сейчас чудесная встреча. На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, подпоручик. «Вы А. П. Чехов?» – «Да, это я. Что вам угодно?» – «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» И покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись.
Всего лучше чувствовал себя А. П. к вечеру, часам к семи, когда в столовой опять собирались к чаю и легкому ужину. Здесь иногда – но год от году все реже и реже – воскресал в нем прежний Чехов, неистощимо веселый, остроумный, с кипучим, прелестным, юношеским юмором. Тогда он импровизировал целые истории, где действующими лицами являлись его знакомые, и особенно охотно устраивал воображаемые свадьбы, которые иногда кончались тем, что на другой день утром, сидя за чаем, молодой муж говорил вскользь, небрежным и деловым тоном:
– Знаешь, милая, а после чаю мы с тобой оденемся и поедем к нотариусу. К чему тебе лишние заботы о твоих деньгах?
Придумывал он удивительные – чеховские – фамилии, из которых я теперь – увы! – помню только одного мифического матроса Кошкодавленко. Любил он также, шутя, старить писателей. «Что вы говорите, – Бунин мой сверстник, – уверял он с напускной серьезностью, – Телешов тоже. Он уже старый писатель. Вы спросите его сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у И. А. Белоусова. Когда это было!» Одному талантливому беллетристу, серьезному идейному писателю, он говорил: «Послушайте же, ведь вы на двадцать лет меня старше. Ведь вы же раньше писали под псевдонимом Нестор Кукольник…»
Но никогда от его шуток не оставалось заноз в сердце, так же, как никогда в своей жизни этот удивительно нежный человек не причинил сознательно даже самого маленького страдания ничему живущему.
После ужина он неизменно задерживал кого-нибудь у себя в кабинете на полчаса или на час. На письменном столе зажигались свечи. И потом, когда уж все расходились и он оставался один, то еще долго светился огонь в его большом окне. Писал ли он в это время, или разбирался в своих памятных книжках, занося впечатления дня, – это, кажется, не было никому известно.
Вообще мы почти ничего не знаем не только о тайнах его творчества, но даже и о внешних, привычных приемах его работы. В этом отношении А. П. был до странного скрытен и молчалив. Помню, как-то мимоходом он сказал очень значительную фразу:
– Только спаси вас Бог читать кому-нибудь свои произведения, пока они не напечатаны. Даже в корректуре не читайте.
Так он и сам поступал постоянно, хотя иногда делал исключения для жены и сестры. Раньше, говорят, он был щедрее на этот счет.
Это было в то время, когда он писал очень много и очень быстро. Он сам говорил, что писал тогда по рассказу в день. Об этом же рассказывала и Е. Я. Чехова. «Бывало, еще студентом, Антоша сидит утром за чаем и вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза, а я знаю, что он уж ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро-быстро. И опять задумается…»
Но в последние годы Чехов стал относиться к себе все строже и все требовательнее: держал рассказы по нескольку лет, не переставая их исправлять и переписывать, и все-таки, несмотря на такую кропотливую работу, последние корректуры, возвращавшиеся от него, бывали кругом испещрены знаками, пометками и вставками. Для того чтобы окончить произведение, он должен был писать его не отрываясь. «Если я надолго оставлю рассказ, – говорил он как-то, – то уж не могу потом приняться за его окончание. Мне надо тогда начинать снова».
Где он черпал свои образы? Где находил свои наблюдения и сравнения? Где он выковывал свой великолепный, единственный в русской литературе язык? Он никому не поверял и не обнаруживал своих творческих путей. Говорят, после него осталось много записных книжек; может быть, в них со временем найдутся ключи к этим сокровенным тайнам? А может быть, они и навсегда останутся неразгаданными? Кто знает? Во всяком случае, мы должны довольствоваться в этом направлении только осторожными намеками и предположениями.
Я думаю, что всегда, с утра до вечера, а может быть, даже и ночью, во сне и бессоннице, совершалась в нем незримая, но упорная, порою даже бессознательная работа – работа взвешивания, определения и запоминания. Он умел слушать и расспрашивать, как никто, но часто, среди живого разговора, можно было заметить, как его внимательный и доброжелательный взгляд вдруг делался неподвижным и глубоким, точно уходил куда-то внутрь, созерцая нечто таинственное и важное, совершавшееся в его душе. Тогда-то А. П. и делал свои странные, поражавшие неожиданностью, совсем не идущие к разговору, вопросы, которые так смущали многих. Только что говорили и еще продолжают говорить о неомарксистах, а он вдруг спрашивает: «Послушайте, вы никогда не были на конском заводе? Непременно поезжайте. Это интересно». Или вторично предлагает вопрос, на который только что получил ответ.
Внешней, механической памятью Чехов не отличался. Я говорю про ту мелочную память, которою так часто обладают в сильной степени женщины и крестьяне и которая состоит в запоминании того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов и какие сапоги, какого цвета волосы. Просто эти детали были для него неважны и неинтересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок и уже знал, как очертить его главную, внутреннюю суть двумя-тремя штрихами.
Однажды Чехов с легким неудовольствием говорил о своем хорошем знакомом, известном ученом, который, несмотря на давнюю дружбу, несколько утеснял А. П-ча своей многословностью. Как только приедет в Ялту, сейчас же является к Чехову и сидит с утра до обеда; в обед уедет к себе в гостиницу на полчаса, а там опять приезжает и сидит до глубокой ночи, и все говорит, говорит, говорит… И так каждый день.