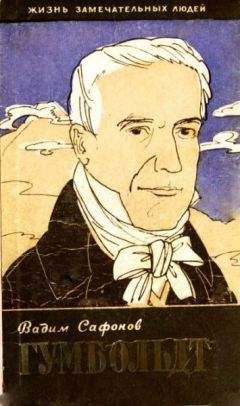Что первое я вспоминаю?
Меня вынесли на руках на балкон (очень страшно: вдруг обвалится). Внизу огни, огни - иллюминация по случаю коронования Николая II. Во время этой же коронации дед мой нес балдахин над царем, палка у него обломилась, и всю тяжесть со своей стороны он вынес на руках. В этом же году он умер от рака печени. В памяти моей от него осталась только седая борода на две стороны, когда он брал меня на руки. Когда он был уже тяжело болен, то любил, когда меня приводили к нему: "Без нее скучно было бы", а бабушка особенно любила меня за то, что у меня широкие брови, "как у дедушки".
Воспоминания затем отрывочны: круглая гостиная в доме Шмидта на Арбатской площади, Никитский бульвар с кустами белой сирени. Я мало помню старших сестер, только Сашу. Она была на семь лет старше меня, и я ее трепетно обожала. Высшим счастьем было, если она снисходила до того, чтобы с нами поиграть, хотя и за ухо дернет и толкнет, - только бы поиграла. Она прекрасно уже играла на рояле, писала стихи, целые романы. У нее была масса увлечений. Девочкой она страшно любила воздушные шары, я нашла в шкапу коробочку с надписью: шар Миша, скончался - и дата. И блестящие стеклянные шары, в которые она любила смотреться.
В тот год, когда отстроилась Консерватория и наша семья переехала туда в новую квартиру, младшие дети - Сережа, Ваня и я - долго оставались у бусеньки в небольшом имении Ильинка под Георгиевском. И тут пришла телеграмма: "Настя больна, выезжайте". Помню все очень резко. И ясное чувство катастрофы (мне шесть лет), и идиотская улыбка, которая точно приклеилась к лицу, - и ничего с ней не поделаешь. Потом вокзал в Москве, темный день, проливной дождь, и молодая мама в трауре бежит нам навстречу и плачет.
В одну неделю умерли и Настя - от воспаления легких, и Саша - от воспаления брюшины.
Повезли нас не домой, а в гостиницу "Дрезден". На этом месте сейчас ресторан "Арагви". А тогда это было мрачное темно-серое здание, с темными коридорами, с темными обоями. Всем не до тебя, и страх, и тоска, и полная растерянность. Сестер еще не похоронили, брата Илюшу отправили к Ипполитову-Иванову, папиному другу; мама только навещала нас. Не знаю, кто был тот добрый человек, который подарил мне игрушку: Ноев ковчег со всеми животными по паре - все деревянное. Это был единственный светлый момент за все это беспросветное время.
А тут Илюша заболел воспалением уха, и глупая наша гувернантка сразу об этом брякнула маме - помню, как мама упала головой на стол и ее рыдания: "Как? И этот?"
Страшные были дни. Долгое время потом я не могла проходить мимо "Дрездена" без сердечного содрогания.
И вот тут еще одно детское и на всю жизнь впечатление. Когда заболела Настя, у папы был назначен концерт в Петербурге, и он не мог его отменить. Ему пришлось туда ехать и дирижировать, зная, что она при смерти, - она и умерла в его отсутствие; тетя Настя была на концерте, зная о ее смерти, и только в поезде сказала об этом отцу. В первый раз я тогда поняла, что такое артистический долг, что такое искусство и какие обязательства оно накладывает на человека. Что бы ни было - он должен. Никакими словами и наставлениями этого не внушить. И отсюда с детства глубокое уважение к отцу.
Если Настя была мамина дочка, то Саша - папина. И, умирая, она просила его стать так, чтобы она могла его видеть.
Долго эта тень лежала на нашей семье, и не знаю, что было бы с мамой, если бы она не ждала в то время рождения сестры Оли. И слезы у нее градом лились, когда она ее пеленала. И помню, как в темной гостиной мама одна поет "Отчего побледнела весной", а у меня сердце сжимается от жалости к ней, потому что я понимаю, о чем она поет и плачет.
Нас перевезли после похорон уже в новую квартиру в Консерватории, и с тех пор я помню все более или менее связно.
Квартира была большая, в два этажа. Внизу детские, классная комната, а за коридором кухня и комната для прислуги. Подъемная машина для посуды и кушаний и винтовая лестница в столовую. Другая лестница вела к спальням родителей и братьев Илюши и Вани и в парадные комнаты.
Из столовой дверь вела в Консерваторию. Из этой-то двери, как с некоего Олимпа, появлялся папа, всегда с кем-нибудь из музыкантов, и сюда мы являлись к завтраку и обеду. Стол был большой, овальный, садилось много народу и видимо-невидимо нас - детей, больших и маленьких: все черные, все похожие на папу - и все разные. Сидели подолгу, что было очень нам трудно. Время за столом было единственным, когда папа видел семью в сборе. Чаще всего бывал Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов, которого мы очень любили. Он то и дело проливал на скатерть красное вино, его засыпали солью - очень интересно смотреть.
Иногда папа, окинув взглядом стол, говорил: "А ну-ка, Аня (или Варя, или Муля), прочитай нам "19-е октября"!" И вот встаешь и начинаешь:
Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
а там такое количество строф - кажется, конца им нет. На тарелке стынет котлета с макаронами, а ты читаешь. Но я и сейчас люблю эти стихи. А старшим братьям и того не легче: они должны были наизусть знать и читать всего "Медного всадника" - и читали.
Перед едой дети по очереди читали "Отче наш", после еды - молитву. Когда стали постарше, старались разнообразить эту повинность. Брат Ваня умудрялся не торопясь, с расстановкой прочитывать "Отче наш" за одно дыхание, и даже не выдыхая, а вдыхая воздух - все на полном серьезе, чтобы не заметил папа.
Так как я изо всего выросла, то в Кисловодске пошили мне какие-то немыслимые рубашки с лиловыми горохами, одеяло было тоже пестрое, а сестра Варя лежала в белоснежных рубашечках с кружевами под голубым атласным одеялом. Я чувствовала себя дикаркой, а Варя ("она маленькая, ты ей должна уступать") объявила, что она не Варя, она Аня, отобрала все мои игрушки и... Кто же я? Это было просто ужасно.
Еще очень ярко: нас с Варей моют в одной ванне на ножках. Очень много мыльной пены и очень смешно. Обе мы стараемся попасть ногой друг другу в нос. Потом нас несут (кто?), завернув в одеяло, через длинный темноватый коридор. Как странно смотреть сверху - все другое совсем.
Наша детская - очень большая, в три окна комната. Здесь живем мы: Варя, я, Муля и наша гувернантка Людмила Николаевна (Никаша)23. Большой черный стол, под которым очень удобно играть, большой диван, где спит Людмила Николаевна, умывальник за ширмой у печки, наши кроватки. Над диваном полка, на ней икона и голубая лампадка, которая горит всю ночь, и бутылка с красным крестом с сиропом от кашля "Сиролин", это очень вкусно.
Папа и мама на втором этаже. Это уже другой мир. Туда мы приходим утром к завтраку, потом к чаю и к обеду, но живем мы внизу. Я уже читаю. Когда я выучилась читать - не знаю, кажется, на шестом году, но как? Вроде само собой. В Газетном переулке на углу Тверской игрушечная лавка Сафонова - это очень интересно; там продаются сказки в издании Сытина. Книжка - 10 коп., но какая! Какие картинки, какие краски! До сих пор помню "Царевича-лягушку": сидит у колодца красивая девушка, плачет, а из колодца лезет лягушка, во рту у нее золотой мячик... Надо иметь все сказки именно десятикопеечные. Те, что дороже, - это уже не то.
А по субботам, когда в Консерватории бывали симфонические концерты, из окна нашей классной (довольно унылой комнаты) можно было видеть, как светится на большой лестнице витраж: святая Цецилия играет на органе. Это окно заделано теперь, и на месте его висит худшая из репинских картин русские композиторы. И каждый раз, когда я их вижу, мне жаль, что убрали это поэтическое изображение слепой девушки, погруженной в звуки24.
Мы воспитывались в церковном духе. Каждое воскресенье обязательно было ходить к обедне, в пост - говеть. Все это подчас было обременительно, но придавало жизни какую-то поэтическую окраску. Праздники были совсем особенными днями. К ним готовились все, особенно к Пасхе, во всем доме наводилась чистота и красота.
Какое наслаждение красить яйца! Какой восторг, когда во время пасхальной заутрени открываются запертые двери церкви и выходит крестный ход! И подарки дарили на праздники нам, и мы дарили сами папе и маме непременно что-нибудь, что сделали сами. Подарки получали мы только на Рождество и Пасху все и лично каждый в дни рождения и именин.
Папа был единоверцем, и всех нас крестил единоверческий священник отец Иоанн Звездинский, живший в Лефортове, где была единоверческая церковь25.
Но так как ездить туда было далеко, то по воскресеньям нас водили в ближайшую православную церковь, а в Лефортово возили только раз в год, на вынос плащаницы. С вечера укладывали пораньше, с тем чтобы разбудить в 11 часов - служба начиналась около 12 ночи (спать, конечно, никакой возможности). Нанималось ландо, туда насыпались дети и садились родители. Холодная ночь ранней весны, спящая Москва необыкновенна. В церкви мужчины стоят отдельно - справа, женщины - слева. Нам повязывают на голову платки: так полагается. Каждому - круглый коврик для земных поклонов. Поклоны кладутся по уставу - все сразу; их очень много, болят спина и колени. Поют по крюкам, напевы древние; иконы - старого письма. Плащаницу выносят на рассвете, крестный ход идет вокруг церкви со свечами. Холодно, знобко и, главное, необычайно, незабываемо. Папа любил это пение и терпеть не мог концертного пения в церкви - вероятно, из-за чувства стиля.