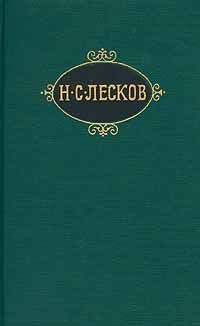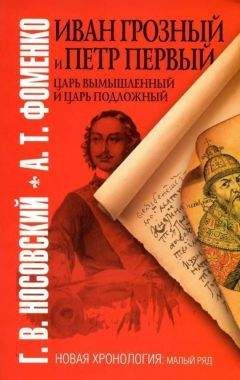– Чего пиликаешь? Разве можно так скрипеть, когда теперь гудут, несясь в пространстве мировом, планеты?
Патрикей в этом сначала ничего не понял, но зато когда Дон-Кихот Рогожин нарисовал ему значки планет и, указав орбиты их движения, сказал:
– Ведь, понимаешь, каждая должна давать свой тон: вот эта меньшая, она тоненько свистит, а эта вот здоровая жужжит, как бомба, а наша тут землишка и себе альтом играет…
Патрикей не стал далее дослушивать, а обернул свою скрипку и смычок куском старой кисеи и с той поры их уже не разворачивал; время, которое он прежде употреблял на игру на скрипке, теперь он простаивал у того же окна, но только лишь смотрел на небо и старался вообразить себе ту гармонию, на которую намекнул ему рыжий дворянин Дон-Кихот Рогожин.
Охотник мечтать о дарованиях и талантах, погибших в разных русских людях от крепостного права, имел бы хорошую задачу расчислить, каких степеней и положений мог достичь Патрикей на поприще дипломатии или науки, но я не знаю, предпочел ли бы Патрикей Семеныч всякий блестящий путь тому, что считал своим призванием: быть верным слугой своей великодушной княгине.
– Ее раб, – говорил он, – и ее рабом я умру.
И он так и сделал.
В этом был его point d'honneur,[4] и даже более: он чувствовал потребность быть ей предан без меры.
Я знаю, что это многим может показаться глупым или по меньшей мере странным и непонятным, но что делать? Chaque baron а sà fantaisie,[5] а фантазия Патрикея была та, что он и в дряхлой старости своей, схоронив княгиню Варвару Никаноровну, не поехал в Петербург к своему разбогатевшему сыну, а оставался вольным крепостным после освобождения и жил при особе дяди князя Якова. Будучи уже очень стар, он был не в силах трудиться, но ходил по дому и постоянно кропотался на новых слуг да содержал в порядке старые чубуки и трубки, из которых никто не курил и которые для того еще и оставались в доме, чтоб у старого Патрикея было что-нибудь на руках.
Это был чтитель высоко им ценимой доблести рода, постепенное, но роковое исчезновение которой ему суждено было видеть во всеобщей захудалости потомков его влиятельной и пышной княгини.
Назвав княгиню влиятельною и пышною, я считаю необходимым показать, в чем проявлялась ее пышность и каково было ее влияние на общество людей дворянского круга, а также наметить, чем она приобрела это влияние в то время, в котором влиятельность неофициальному лицу доставалась отнюдь не легче, чем нынче, когда ее при всех льготных положениях никто более не имеет.
Надеюсь, это будет иметь здесь свое место и даже некоторый интерес.
Говоря нынешним книжным языком, я, может быть, всего удачнее выразилась бы, сказав, что бабушка ни одной из своих целей не преследовала по особому, вдаль рассчитанному плану, а достижение их пришло ей в руки органически, самым простым и самым правильным, но совершенно незаметным образом, как бы само собою.
Неожиданно овдовев, бабушка, как можно было видеть из первых страниц моих записок, не поехала искать рассеяния, как бы сделала это современная дама, а она тотчас же занялась приведением в порядок своего хозяйства, что было и весьма естественно и совершенно необходимо, потому что, пока княгиня с князем жили в Петербурге, в деревне многое шло не так, как нужно. Теперь она, оставшись одинокою, озаботилась всесторонним поднятием уровня своих экономических дел и начала это с самой живой силы крепостного права, то есть с крестьян.
Нынче очень многие думают, что при крепостном праве почти совсем не нужно было иметь уменья хорошо вести свои дела, как будто и тогда у многих и очень многих дела не были в таком отчаянно дурном положении, что умные люди уже тогда предвидели в недалеком будущем неизбежное «захудание» родового поместного дворянства. Это зависело, конечно, от разных причин, между которыми, однако, самое главное место занимало неумение понимать своей пользы иначе, как в связи с пользою всеобщею, и прежде всего с материальным и нравственным благосостоянием крестьян.
Глядя на веши практически и просто, бабушка не отделяла нравственность от религии. Будучи сама религиозна, она человека без религии считала ни во что.
– Таковой, – по ее словам, – сколь бы умен ни был, а положиться на него нельзя, потому что у него смысл жизни потерян.
Этого для княгини было довольно, потому что у самой у нее смысл жизни был развит с удивительною последовательностью. Сама она строго содержала уставы православной церкви, но при требовании от человека религии отнюдь не ставила необходимым условием исключительного предпочтения ее веры пред всеми другими. Совсем нет… она не скрывала, что «уважает всякую добрую религию».
Княгиня не только не боялась свободомыслия в делах веры и совести, но даже любила откровенную духовную беседу с умными людьми и рассуждала смело. Владея чуткостью религиозного смысла, она имела истинное дерзновение веры и смотрела на противоречия ей без всякого страха. Она как будто даже считала их полезными.
– Если древо не будет колеблемо, – говорила она, – то оно крепких корней не пустит, в затишье деревья слабокоренны.
Но я не хотела бы тоже, чтобы кто-нибудь подумал, что бабушка была только деисткою и индифферентною в делах веры. Опять нет: повторяю, княгиня была искреннейшая почитательница родного православия; не числилась только в нем, а крепко его содержала. Она соблюдала посты, ходила в церковь; твердо знала обиход и любила в службе стройность и благолепие; взыскивала, чтобы попы в алтаре громко не сморкались и не обтирали бород аналойными полотенцами; дьяконы чтобы не ревели, а дьячки не частили в чтении кафизм и особенно шестопсалмия, которое бабушка знала наизусть.
С этой духовной стороны она и начала свое вдовье господарство. Первым ее делом было потребовать из церквей исповедные росписи и сличить, кто из крестьян ходит и кто не ходит в церковь? От неходящих, которые принадлежали к расколу, она потребовала только чтоб они ей откровенно сознались, и заказала, чтобы их причет не смущал и не неволил к требам. Она о них говорила:
– Пусть где хотят молятся: бог один, и длиннее земли мера его.
Церковных же своих крестьян княгиня сама разделила по седмицам, чтобы каждый мог свободно говеть, не останавливая работ; следила, чтоб из числа их не было совращений – в чем, впрочем, всегда менее винила самих совращающихся, чем духовенство. О духовенстве она, по собственным ее словам, много скорбела, говоря, что «они ленивы, алчны и к делу своему небрежны, а в Писании неискусны».
Состязаться с княгинею, в чем бы то ни было касающемся церковных уставов или обихода, священники ее сёл не дерзали; она была для них все: и ктитор, и консистория, и владыка, и уже у нее священник прижать мужичка при браке какою-нибудь натяжкою в степени родства не помышлял.
«Владыка», при малейшем сомнении, сама бралась за Кормчую и, рассмотрев дело, решала его так, что оставалось только исполнять, потому что решение всегда было правильно.
В том же самом духе ведены ею были и все другие отрасли ее обширного хозяйства. Бабушка в попечительных заботах о благе крестьян хотела знать все, что до них касается, и достигла этого тем, что жила совершенно доступною для каждого. Все люди без исключения могли приходить к бабушке со всякими мелочами. Десятник не пускал мужика на ярмарку продать овцу и купить лык, соли или дегтю, и мужик, если он считал себя напрасно задержанным, сейчас шел с жалобою к княгине. Она к нему непременно выходила, терпеливо его выслушивала и решала – прав он или неправ. В первом случае мужик получал удовлетворение, а в противном – брался на замечание и в случае повторения кляузничества лишался в течение определенного времени права являться на глаза княгине. Такие опальные, видя себя на все время опалы лишенными самой правдивейшей и мощной защиты, тяжело чувствовали силу справедливого гнева Варвары Никаноровны и страшились вперед навлекать его на себя.
Наказания были редки и неожесточительны, но все-таки были, и притом иногда не без ведома самой княгини, которая, правду сказать, этим не смущалась. Она говорила, что:
– Когда милосердие не действует, то строгость тоже есть милосердие.
Крестьяне к похвалам богобоязненности бабушки скоро приумножили хвалу на хвалу ее разуму и справедливости. Сёла ее богатели и процветали: крепостные ее люди покупали на стороне земли на ее имя и верили ей более, чем самим себе.
Это доверие впоследствии повлекло за собою для нее тяжелое огорчение, павшее на нее без всякой ее вины, но по вине лица, которое нам с нею было очень близко и о котором мне тяжело будет вспоминать. Но это все после.
Такими простыми мерами, какие мною описаны, княгиня без фраз достигла того, что действительно вошла в народ, или, как нынче говорят: «слилась с ним» в одном русле и стояла посреди своих людей именно как владыка, как настоящая народная княгиня и госпожа…